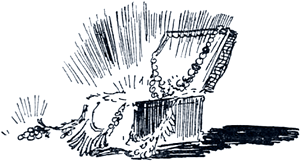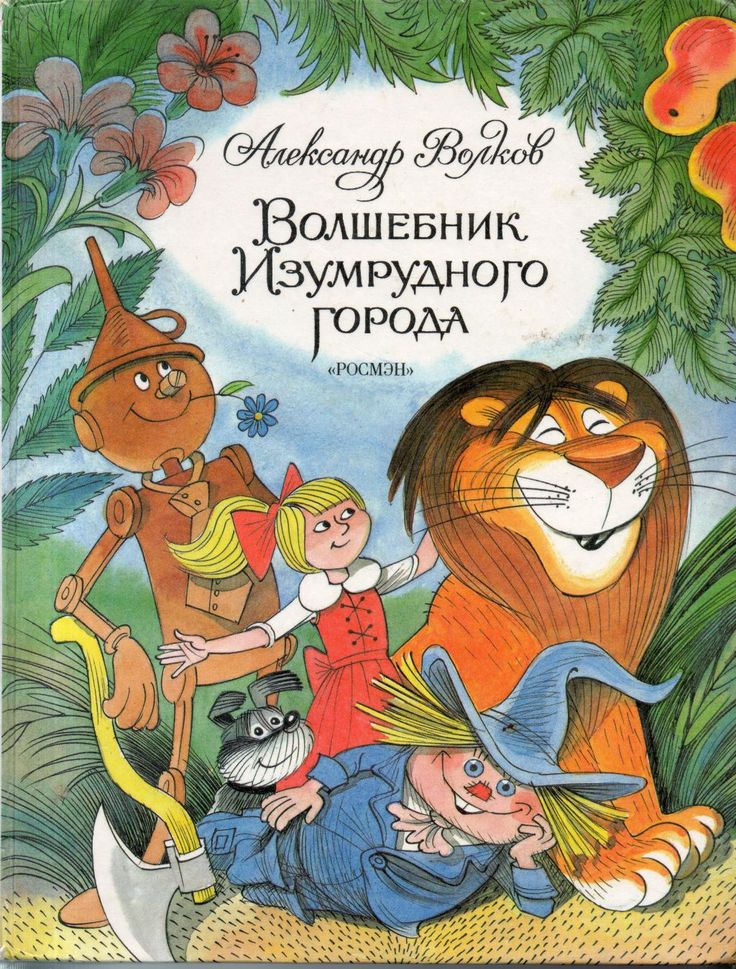Чтение 4-классникам
| Сайт: | Новгородская "Школа-OnLine" |
| Курс: | Библиотека |
| Книга: | Чтение 4-классникам |
| Напечатано:: | Гость |
| Дата: | Вторник, 17 февраля 2026, 15:54 |
Оглавление
- 1. Астафьев В. "Васюткино озеро"
- 2. Астафьев В. "Конь с розовой гривой"
- 3. Астафьев В. "Монах в новых штанах"
- 4. Бажов П.П. Малахитовая шкатулка
- 5. Бажов П.П. Медной горы хозяйка
- 6. Волков А. "Волшебник Изумрудного города"
- 7. Зощенко М. "Карусель"
- 8. Зощенко М. "Галоша"
- 9. Гоголь Н.В. "Заколдованное место"
- 10. Куприн А.И. "Белый пудель"
- 11. Носов Н.Н. "Витя Малеев в школе и дома"
- 12. Носов Н.Н. "Приключения Толи Клюквина"
- 13. Одоевский Ф.В. "Городок в табакерке"
- 14. Паустовский К.Г. "Теплый хлеб"
- 15. Паустовский К.Г. "Заячьи лапы"
- 16. Платонов А.П. "Никита"
1. Астафьев В. "Васюткино озеро"

Это озеро не отыщешь на карте. Небольшое оно. Небольшое, зато памятное для Васютки. Ещё бы! Мала ли честь для тринадцатилетнего мальчишки — озеро, названное его именем! Пускай оно и не велико, не то что, скажем, Байкал, но Васютка сам нашёл его и людям показал. Да, да, не удивляйтесь и не думайте, что все озёра уже известны и что у каждого есть своё название. Много ещё, очень много в нашей стране безымянных озёр и речек, потому что велика наша Родина, и сколько по ней ни броди, всё будешь находить что-нибудь новое, интересное.
Рыбаки из бригады Григория Афанасьевича Шадрина — Васюткиного отца — совсем было приуныли. Частые осенние дожди вспучили реку, вода в ней поднялась, и рыба стала плохо ловиться: ушла на глубину.
Холодная изморозь и тёмные волны на реке нагоняли тоску. Не хотелось даже выходить на улицу, не то что выплывать на реку. Заспались рыбаки, рассолодели от безделья, даже шутить перестали. Но вот подул с юга тёплый ветер и точно разгладил лица людей. Заскользили по реке лодки с упругими парусами. Ниже и ниже по Енисею спускалась бригада. Но уловы по-прежнему были малы.
— Нету нам нынче фарту, — ворчал Васюткин дедушка Афанасий. — Оскудел батюшко Енисей. Раньше жили, как бог прикажет, и рыба тучами ходила. А теперь пароходы да моторки всю живность распугали. Придёт время — ерши да пескари и те переведутся, а об омуле, стерляди и осетре только в книжках будут читать.
Спорить с дедушкой — дело бесполезное, потому никто с ним не связывался.
Далеко ушли рыбаки в низовье Енисея и наконец остановились. Лодки вытащили на берег, багаж унесли в избушку, построенную несколько лет назад учёной экспедицией.
Григорий Афанасьевич, в высоких резиновых сапогах с отвернутыми голенищами и в сером дождевике, ходил по берегу и отдавал распоряжения.
Васютка всегда немного робел перед большим, неразговорчивым отцом, хотя тот никогда его не обижал.
— Шабаш, ребята! — сказал Григорий Афанасьевич, когда разгрузка закончилась. — Больше кочевать не будем. Так, без толку, можно и до Карского моря дойти.
Он обошёл вокруг избушки, зачем-то потрогал рукой углы и полез на чердак, подправил съехавшие в сторону пластушины корья на крыше. Спустившись по дряхлой лестнице, он тщательно отряхнул штаны, высморкался и разъяснил рыбакам, что избушка подходящая, что в ней можно спокойно ждать осеннюю путину, а пока вести промысел паромами и перемётами. Лодки же, невода, плавные сети и всю прочую снасть надобно как следует подготовить к большому ходу рыбы.
Потянулись однообразные дни. Рыбаки чинили невода, конопатили лодки, изготовляли якорницы, вязали, смолили.
Раз в сутки они проверяли перемёты и спаренные сети — поромы, которые ставили вдали от берега.
Рыба в эти ловушки попадала ценная: осётр, стерлядь, таймень, частенько налим, или, как его в шутку называли в Сибири, поселенец. Но это спокойный лов. Нет в нём азарта, лихости и того хорошего, трудового веселья, которое так и рвётся наружу из мужиков, когда они полукилометровым неводом за одну тоню вытаскивают рыбы по нескольку центнеров.
Совсем скучное житьё началось у Васютки. Поиграть не с кем — нет товарищей, сходить некуда. Одно утешало: скоро начнётся учебный год, и мать с отцом отправят его в деревню. Дядя Коляда, старшина рыбосборочного бота, уже учебники новые из города привёз. Днём Васютка нет-нет да и заглянет в них от скуки.
Вечерами в избушке становилось людно и шумно. Рыбаки ужинали, курили, щёлкали орехи, рассказывали были и небылицы. К ночи на полу лежал толстый слой ореховой скорлупы. Трещала она под ногами, как осенний ледок на лужах.
Орехами рыбаков снабжал Васютка. Все ближние кедры он уже обколотил. С каждым днём приходилось забираться всё дальше и дальше в глубь леса. Но эта работа была не в тягость. Мальчишке нравилось бродить. Ходит себе по лесу один, напевает, иногда из ружья пальнёт.
Васютка проснулся поздно. В избушке одна мать. Дедушка Афанасий ушёл куда-то. Васютка поел, полистал учебники, оборвал листок календаря и с радостью отметил, что до первого сентября осталось всего десять дней. Потом засобирался по кедровые шишки.
Мать недовольно сказала:
— К ученью надо готовиться, а ты в лесу пропадаешь.
— Чего ты, мамка? Орехи кто-то должен добывать? Должен. Охота ведь рыбакам пощёлкать вечером.
— «Охота, охота»! Надо орехов, так пусть сами ходят. Привыкли парнишкой помыкать да сорить в избе.
Мать ворчит по привычке, потому что ей не на кого больше ворчать.
Когда Васютка с ружьём на плече и с патронташем на поясе, похожий на коренастого, маленького мужичка, вышел из избы, мать привычно строго напоминала:
— Ты от затесей далеко не отходи — сгинешь. Хлеба взял ли с собой?
— Да зачем он мне? Каждый раз обратно приношу.
— Не разговаривай! На вот краюшку. Не задавит она тебя. Спокон веку так заведено, мал ещё таёжные законы переиначивать.
Тут уж с матерью не поспоришь. Таков старинный порядок: идёшь в лес — бери еду, бери спички.
Васютка покорно сунул краюшку в мешок и поспешил исчезнуть с глаз матери, а то ещё придерётся к чему-нибудь.
Весело насвистывая, шёл он по тайге, следил за пометками на деревьях и думал о том, что, наверное, всякая таёжная дорога начинается с затесей. Сделает человек зарубку на одном дереве, отойдёт немного, ещё топором тюкнет, потом ещё. За этим человеком пойдут другие люди; собьют каблуками мох с валежин, притопчут траву, ягодники, отпечатают следы в грязи, и получится тропинка. Лесные тропинки узенькие, извилистые, что морщинки на лбу дедушки Афанасия. Только иные тропинки зарастают со временем, а уж морщинки-то на лице едва ли зарастут.
Склонность к пространным рассуждениям, как у всякого таёжника, рано появилась у Васютки. Он ещё долго думал бы о дороге и о всяких таёжных разностях, если бы не скрипучее кряканье где-то над головой.
«Кра-кра-кра!..» — неслось сверху, будто тупой пилой резали крепкий сук.
Васютка поднял голову. На самой вершине старой взлохмаченной ели увидел кедровку. Птица держала в когтях кедровую шишку и орала во всё горло. Ей так же горласто откликались подруги. Васютка не любил этих нахальных птиц. Он снял с плеча ружье, прицелился и щёлкнул языком, будто на спуск нажал. Стрелять он не стал. Ему ужо не paз драли уши за попусту сожженные патроны. Трепет перед драгоценным «припасом» (так называют сибирские охотники порох и дробь) крепко вбит в сибиряков отроду.
— «Кра-кра»! — передразнил Васютка кедровку и запустил в нее палкой.
Досадно было парню, что не может он долбануть птицу, даром что ружьё в руках. Кедровка перестала кричать, неторопливо ощипалась, задрала голову, и по лесу снова понеслось ее скрипучее «кра!».
— Тьфу, ведьма проклятая! — выругался Васютка и пошёл.
Ноги мягко ступали по мху. На нём там и сям валялись шишки, попорченные кедровками. Они напоминали комочки сотов. В некоторых отверстиях шишек, как пчёлки, торчали орехи. Но пробовать их бесполезно. Удивительно чуткий клюв у кедровки: пустые орехи птица даже не вынимает из гнёздышка. Васютка поднял одну шишку, осмотрел её со всех сторон и покачал головой:
— Эх и пакость же ты!
Бранился Васютка так, для солидности. Он ведь знал, что кедровка — птица полезная: она разносит по тайге семена кедра.
Наконец Васютка облюбовал дерево и полез на него. Намётанным глазом он определил: там, в густой хвое, упрятались целые выводки смолистых шишек. Он принялся колотить ногами по разлапистым веткам кедра. Шишки так и посыпались вниз.
Васютка слез с дерева, собрал их в мешок и, не торопясь, закурил. Попыхивая цигаркой, оглядел окружающий лес и облюбовал ещё один кедр.
— Обобью и этот, — сказал он. — Тяжеловато будет, пожалуй, да ничего, донесу.
Он тщательно заплевал цигарку, придавил ее каблуком и пошел. Вдруг впереди Васютки что-то сильно захлопало. Он вздрогнул от неожиданности и тут же увидел поднимающуюся с земли большую чёрную птицу. «Глухарь!» — догадался Васютка, и сердце его замерло. Стрелял он и уток, и куликов, и куропаток, но глухаря подстрелить ему ещё не доводилось.
Глухарь перелетел через мшистую поляну, вильнул между деревьями и сел на сухостоину. Попробуй подкрадись!
Мальчик стоял неподвижно и не спускал глаз с огромной птицы. Вдруг он вспомнил, что глухаря часто берут с собакой. Охотники рассказывали, что глухарь, сидя на дереве, с любопытством смотрит вниз, на заливающуюся лаем собаку, а порой и подразнивает её. Охотник тем временем незаметно подходит с тыла и стреляет.
Васютка же, как назло, не позвал с собою Дружка. Обругав себя шёпотом за оплошность, Васютка пал на четвереньки, затявкал, подражая собаке, и стал осторожно продвигаться вперёд. От волнения голос у него прерывался. Глухарь замер, с любопытством наблюдая эту интересную картину. Мальчик расцарапал себе лицо, порвал телогрейку, но ничего этого не замечал. Перед ним наяву глухарь!
…Пора! Васютка быстро встал на одно колено и попытался с маху посадить на мушку забеспокоившуюся птицу. Наконец унялась дрожь в руках, мушка перестала плясать, кончик её задел глухаря… Тр-рах! — и чёрная птица, хлопая крыльями, полетела в глубь леса.
«Ранил!» — встрепенулся Васютка и бросился за подбитым глухарём.
Только теперь он догадался, в чём дело, и начал беспощадно корить себя:
— Мелкой дробью грохнул. А что ему мелкой-то? Он чуть не с Дружка!..
Птица уходила небольшими перелётами. Они становились всё короче и короче. Глухарь слабел. Вот он, уже не в силах поднять грузное тело, побежал.
«Теперь всё — догоню!» — уверенно решил Васютка и припустил сильнее. До птицы оставалось совсем недалеко.
Быстро скинув с плеча мешок, Васютка поднял ружьё и выстрелил. В несколько прыжков очутился возле глухаря и упал на него животом.
— Стоп, голубчик, стоп! — радостно бормотал Васютка. — Не уйдёшь теперь! Ишь, какой прыткий! Я, брат, тоже бегаю — будь здоров!
Васютка с довольной улыбкой гладил глухаря, любуясь чёрными с голубоватым отливом перьями. Потом взвесил на руке. «Килограммов пять будет, а то и полпуда, — прикинул он и сунул птицу в мешок. — Побегу, а то мамка наподдаст по загривку».
Думая о своей удаче, Васютка, счастливый, шёл по лесу, насвистывал, пел, что на ум приходило.
Вдруг он спохватился: где же затеси? Пора уж им быть.
Он посмотрел кругом. Деревья ничем не отличались от тех, на которых были сделаны зарубки. Лес стоял неподвижно, тихий в своей унылой задумчивости, такой же редкий, полуголый, сплошь хвойный. Лишь кое-где виднелись хилые берёзки с редкими жёлтыми листьями. Да, лес был такой же. И всё же от него веяло чем-то чужим…
Васютка круто повернул назад. Шёл он быстро, внимательно присматриваясь к каждому дереву, но знакомых зарубок не было.
— Ффу-ты, чёрт! Где же затеси? — Сердце у Васютки сжалось, на лбу выступила испарина. — Всё этот глухарина! Понёсся, как леший, теперь вот думай, куда идти, — заговорил Васютка вслух, чтобы отогнать подступающий страх. — Ничего, сейчас посоображаю и найду дорогу. Та-ак… Почти голая сторона у ели — значит, в ту сторону север, а где ветвей больше — юг. Та-ак…
После этого Васютка пытался припомнить, на какой стороне деревьев сделаны зарубки старые и на какой — новые. Но этого-то он и не приметил. Затеси и затеси.
— Эх, дубина!
Страх начал давить ещё сильнее. Мальчик снова заговорил вслух:
— Ладно, не робей. Найдём избушку. Надо идти в одну сторону. На юг надо идти. У избушки Енисей поворот делает, мимо никак не пройдёшь. Ну вот, всё в порядке, а ты, чудак, боялся! — хохотнул Васютка и бодро скомандовал себе: — Шагом арш! Эть, два!
Но бодрости хватило ненадолго. Затесей всё не было и не было. Порой мальчику казалось, что он ясно видит их на тёмном стволе. С замирающим сердцем бежал он к дереву, чтобы пощупать рукой зарубку с капельками смолы, но вместо неё обнаруживал шершавую складку коры. Васютка уже несколько раз менял направление, высыпал из мешка шишки и шагал, шагал…
В лесу сделалось совсем тихо. Васютка остановился и долго стоял прислушиваясь. Тук-тук-тук, тук-тук-тук… — билось сердце. Потом напряжённый до предела слух Васютки уловил какой-то странный звук. Где-то слышалось жужжание. Вот оно замерло и через секунду снова донеслось, как гудение далёкого самолёта. Васютка нагнулся и увидел у ног своих истлевшую тушку птицы. Опытный охотник — паук растянул над мёртвой птичкой паутину. Паука уже нет — убрался, должно быть, зимовать в какое-нибудь дупло, а ловушку бросил. Попалась в неё сытая, крупная муха-плевок и бьётся, бьётся, жужжит слабеющими крыльями. Что-то начало беспокоить Васютку при виде беспомощной мухи, влипшей в тенёта. И тут его будто стукнуло: да ведь он заблудился!
Открытие это было настолько простым и потрясающим, что Васютка не сразу пришёл в себя.
Он много раз слышал от охотников страшные рассказы о том, как блуждают люди в лесу и погибают иногда, но представлял это совсем не так. Уж очень просто всё получилось. Васютка ещё не знал, что страшное в жизни часто начинается очень просто.
Оцепенение длилось до тех пор, пока Васютка не услышал какой-то таинственный шорох к глубине потемневшего леса. Он вскрикнул и бросился бежать. Сколько paз oн спотыкался, падал, вставал и снова бежал, Васютка не знал. Наконец он заскочил в бурелом и начал с треском продираться сквозь сухие колючие ветви. Потом упал с валежин вниз лицом в сырой мох и замер. Отчаяние охватило его, и сразу не стало сил. «Будь что будет», — отрешённо подумал он.
В лес бесшумно, как сова, прилетела ночь. А с нею и холод. Васютка почувствовал, как стынет взмокшая от пота одежда.
«Тайга, наша кормилица, хлипких не любит!» — вспомнились ему слова отца и дедушки. И он стал припоминать всё, чему его учили, что знал из рассказов рыбаков и охотников. Перво-наперво надо развести огонь. Ладно, что спички захватил из дому. Пригодились спички.
Васютка обломал нижние сухие ветки у дерева, ощупью сорвал пучок сухого мха-бородача, искрошил мелко сучки, сложил всё в кучку и поджёг. Огонёк, покачиваясь, неуверенно пополз по сучкам. Мох вспыхнул — вокруг посветлело. Васютка подбросил ещё веток. Между деревьями зашарахались тени, темнота отступила подальше. Монотонно зудя, на огонь налетело несколько комаров — веселее с ними.
Надо было запастись на ночь дровами. Васютка, не щадя рук, наломал сучьев, приволок сухую валежину, выворотил старый пень. Вытащив из мешка краюшку хлеба, вздохнул и с тоской подумал: «Плачет, поди, мамка». Ему тоже захотелось плакать, но он переборол себя и, ощипав глухаря, начал перочинным ножиком потрошить его. Потом сгрёб костёр в сторону, на горячем месте выкопал ямку и положил туда птицу. Плотно закрыв её мхом, присыпал горячей землёй, золой, углями, сверху положил пылающие головни и подбросил дров.
Через час примерно он раскопал глухаря. От птицы шёл пар и аппетитный запах: глухарь упрел в собственном соку — охотничье блюдо! Но без соли какой же вкус! Васютка через силу глотал пресное мясо.
— Эх, дурило, дурило! Сколько этой соли в бочках на берегу! Что стоило горсточку в карман сыпануть! — укорял он себя.
Потом вспомнил, что мешок, который он взял для шишек, был из-под соли, и торопливо вывернул его. Из уголков мешка он выковырял щепотку грязных кристалликов, раздавил их на прикладе ружья и через силу улыбнулся:
— Живём!
Поужинав, Васютка сложил остатки еды в мешок, повесил его на сук, чтобы мыши или кто-нибудь ещё не добрался до харчей, и принялся готовить место для ночлега.
Он перенёс в сторону костёр, убрал все угольки, набросал веток с хвоей, мху и лёг, накрывшись телогрейкой.
Снизу подогревало.
Занятый хлопотами, Васютка не так остро чувствовал одиночество. Но стоило лечь и задуматься, как тревога начала одолевать с новой силой. Заполярная тайга не страшна зверьём. Медведь здесь редкий житель. Волков нет. Змей — тоже. Бывает, встречаются рыси и блудливые песцы. Но осенью корма для них полно в лесу, и едва ли они могли бы позариться на Васюткины запасы. И всё-таки было жутко. Он зарядил одноствольную переломку, взвёл курок и положил ружьё рядом. Спать!
Не прошло и пяти минут, как Васютка почувствовал, что к нему кто-то крадётся. Он открыл глаза и замер: да, крадётся! Шаг, второй, шорох, вздох… Кто-то медленно и осторожно идёт по мху. Васютка боязливо поворачивает голову и неподалёку от костра видит что-то темное, большое. Сейчас оно стоит, не шевелится.
Мальчик напряжённо вглядывается и начинает различать вздетые к небу не то руки, не то лапы. Васютка не дышит: «Что это?» В глазах от напряжения рябит, нет больше сил сдерживать дыхание. Он вскакивает, направляет ружьё на это тёмное:
— Кто такой? А ну подходи, не то садану картечью!
В ответ ни звука. Васютка ещё некоторое время стоит неподвижно, потом медленно опускает ружьё и облизывает пересохшие губы. «В самом деле, что там может быть?» — мучается он и ещё раз кричит:
— Я говорю, не прячься, а то хуже будет!
Тишина. Васютка рукавом утирает пот со лба и, набравшись храбрости, решительно направляется в сторону тёмного предмета.
— Ох, окаянный! — облегчённо вздыхает он, увидев перед собой огромный корень-выворотень. — Ну и трус же я! Чуть ума не лишился из-за этакой чепухи.
Чтобы окончательно успокоиться, он отламывает отростки от корневища и несёт их к костру.
Коротка августовская ночь в Заполярье. Пока Васютка управился с дровами, густая, как смоль, темень начала редеть, прятаться в глубь леса. Не успела она ещё совсем рассеяться, а на смену ей уже выполз туман. Стало холоднее. Костёр от сырости зашипел, защёлкал, принялся чихать, будто сердился на волглую пелену, окутавшую всё вокруг. Комары, надоедавшие всю ночь, куда-то исчезли. Ни дуновения, ни шороха.
Всё замерло в ожидании первого утреннего звука. Что это будет за звук — неизвестно. Может быть, робкий свист пичужки или лёгкий шум ветра в вершинах бородатых елей и корявых лиственниц, может быть, застучит по дереву дятел или протрубит дикий олень. Что-то должно родиться из этой тишины, кто-то должен разбудить сонную тайгу. Васютка зябко поежился, придвинулся ближе к костру и крепко заснул, так и не дождавшись утренней весточки.
Солнце уже было высоко. Туман росою пал на деревья, на землю, мелкая пыль искрилась всюду.
«Где это я?» — изумлённо подумал Васютка, окончательно проснувшись, услышал ожившую тайгу.
По всему лесу озабоченно кричали кедровки на манер базарных торговок. Где-то по-детски заплакала желна. Над головой Васютки, хлопотливо попискивая, потрошили синички старое дерево. Васютка встал, потянулся и спугнул кормившуюся белку. Она, всполошённо цокая, пронеслась вверх по стволу ели, села на сучок и, не переставая цокать, уставилась на Васютку.
— Ну, чего смотришь? Не узнала? — с улыбкой обратился к ней Васютка.
Белка пошевелила пушистым хвостиком.
— А я вот заблудился. Понёсся сдуру за глухарём и заблудился. Теперь меня по всему лесу ищут, мамка ревёт… Не понимаешь ты ничего, толкуй с тобой! А то бы сбегала, сказала нашим, где я. Ты вон какая проворная! — Он помолчал и махнул рукой: — Убирайся давай, рыжая, стрелять буду!
Васютка вскинул ружьё и выстрелил в воздух. Белка, будто пушинка, подхваченная ветром, метнулась и пошла считать деревья. Проводив её взглядом, Васютка выстрелил ещё раз и долго ждал ответа. Тайга не откликалась. По-прежнему надоедливо, вразнобой горланили кедровки, неподалёку трудился дятел да пощёлкивали капли росы, осыпаясь с деревьев.
Патронов осталось десять штук. Стрелять Васютка больше не решился. Он снял телогрейку, бросил на неё кепку и, поплевав на руки, полез на дерево.
Тайга… Тайга… Без конца и края тянулась она во все стороны, молчаливая, равнодушная. С высоты она казалась огромным тёмным морем. Небо не обрывалось сразу, как это бывает в горах, а тянулось далеко-далеко, всё ближе прижимаясь к вершинам леса. Облака над головой были редкие, но чем дальше смотрел Васютка, тем они делались гуще, и наконец голубые проёмы исчезли совсем. Облака спрессованной ватой ложились на тайгу, и она растворялась в них.
Долго Васютка отыскивал глазами жёлтую полоску лиственника среди неподвижного зелёного моря (лиственный лec обычно тянется по берегам реки), но кругом темнел сплошной хвойник. Видно, Енисей и тот затерялся в глухой, угрюмой тайге. Маленьким-маленьким почувствовал себя Васютка и закричал с тоской и отчаянием:
— Э‑эй, мамка! Папка! Дедушка! Заблудился я!..
Голос его пролетел немного над тайгой и упал невесомо — кедровой шишкой в мох.
Медленно спустился Васютка с дерева, задумался, да так и просидел с полчаса. Потом встряхнулся, отрезал мяса и, стараясь не смотреть на маленькую краюшку хлеба, принялся жевать. Подкрепившись, он собрал кучу кедровых шишек, размял их и стал насыпать в карманы орехи. Руки делали своё дело, а в голове решался вопрос, один-единственный вопрос: «Куда идти?» Вот уж и карманы полны орехов, патроны проверены, к мешку вместо лямки приделан ремень, а вопрос всё ещё не решён. Наконец Васютка забросил мешок за плечо, постоял с минуту, как бы прощаясь с обжитым местом, и пошёл строго на север. Рассудил он просто: в южную сторону тайга тянется на тысячи километров, в ней вовсе затеряешься. А если идти на север, то километров через сто лес кончится, начнётся тундра. Васютка понимал, что выйти в тундру — это ещё не спасение. Поселения там очень редки, и едва ли скоро наткнёшься на людей. Но ему хотя бы выбраться из лесу, который загораживает свет и давит своей угрюмостью.
Погода держалась все ещё хорошая. Васютка боялся и подумать о том, что с ним будет, если разбушуется осень. По всем признакам ждать этого осталось недолго.
Солнце пошло на закат, когда Васюткa заметил среди однообразного мха тощие стебли травы. Он прибавил шагу. Трава стала попадаться чаще и уже не отдельными былинками, а пучками. Васютка заволновался: трава растет обычно вблизи больших водоёмов. «Неужели впереди Енисей?» — с наплывающей радостью думал Васютка. Заметив меж хвойных деревьев берёзки, осинки, а дальше мелкий кустарник, он не сдержался, побежал и скоро ворвался в густые заросли черёмушника, ползучего тальника, смородинника. Лицо и руки жалила высокая крапива, но Васютка не обращал на это внимания и, защищая рукой глаза от гибких ветвей, с треском продирался вперёд. Меж кустов мелькнул просвет.
Впереди берег… Вода! Не веря своим глазам, Васютка остановился. Так он простоял некоторое время и почувствовал, что ноги его вязнут. Болото! Болота чаще всего бывают у берегов озёр. Губы Васютки задрожали: «Нет, неправда! Бывают болота возле Енисея тоже». Несколько прыжков через чащу, крапиву, кусты — и вот он на берегу.
Нет, это не Енисей. Перед глазами Васютки небольшое унылое озеро, подёрнутое у берега ряской.
Васютка лёг на живот, отгрёб рукою зелёную кашицу ряски и жадно припал губами к воде. Потом он сел, усталым движением снял мешок, начал было вытирать кепкой лицо и вдруг, вцепившись в неё зубами, навзрыд расплакался.
Заночевать решил Васютка на берегу озера. Он выбрал посуше место, натаскал дров, развёл огонь. С огоньком всегда веселее, а в одиночестве — тем более. Обжарив в костре шишки, Васютка одну за другой выкатил их из золы палочкой, как печёную картошку. От орехов уже болел язык, но он решил: пока хватит терпения, не трогать хлеб, а питаться орехами, мясом, чем придётся.
Опускался вечер. Сквозь густые прибрежные заросли на воду падали отблески заката, тянулись живыми струями в глубину и терялись там, не достигая дна. Прощаясь со днем, кое-где с грустью тинькали синички, плакала сойка, стонали гагары. И всё таки у озера было куда веселее, чем в гуще тайги. Но здесь ещё сохранилось много комаров. Они начали донимать Васютку. Отмахиваясь от них, мальчик внимательно следил за ныряющими на озеро утками. Они были совсем не пуганы и плавали возле самого берега с хозяйским покрякиванием. Уток было множество. Стрелять по одной не было никакого расчёта. Васюткa, прихватив ружьё, отправился на мысок, вдававшийся в озеро, и сел на траву. Рядом с осокой, на гладкой поверхности воды, то и дело расплывались круги. Это привлекло внимание мальчика. Васютка взглянул в воду и замер: около травы, плотно, одна к другой, пошевеливая жабрами и хвостами, копошились рыбы. Рыбы было так много, что Васютку взяло сомнение: «Водоросли, наверно?» Он потрогал траву палкой. Косяки рыбы подались от берега и снова остановились, лениво работая плавниками.
Столько рыбы Васютка ещё никогда не видел. И не просто какой-нибудь озёрной рыбы: щуки там, сороги или окуня. Нет, по широким спинам и белым бокам он узнал пелядей, чиров, сигов. Это было удивительнее всего. В озере — белая рыба!
Васютка сдвинул свои густые брови, силясь что-то припомнить. Но в этот момент табун уток-свиязей отвлёк его от размышлений. Он подождал, пока утки поравняются с мысом, выцелил пару и выстрелил. Две нарядные свиязи опрокинулись кверху брюшками и часто-часто задвигали лапками. Ещё одна утка, оттопырив крыло, боком уплывала от берега. Остальные всполошились и с шумом полетели на другую сторону озера. Минут десять над водой носились табуны перепуганных птиц.
Пару подбитых уток мальчик достал длинной палкой, а третья успела уплыть далеко.
— Ладно, завтра достану, — махнул рукой Васютка.
Небо уже потемнело, в лес опускались сумерки. Середина озера напоминала сейчас раскалённую печку. Казалось, положи на гладкую поверхность воды ломтики картошки, они мигом испекутся, запахнет горелым и вкусным. Васютка проглотил слюну, ещё раз поглядел на озеро, на кровянистое небо и с тревогой проговорил:
— Ветер завтра будет. А вдруг ещё с дождём?
Он ощипал уток, зарыл их в горячие угли костра, лёг на пихтовые ветки и начал щёлкать орехи.
Заря догорала. В потемневшем небе стыли редкие неподвижные облака. Начали прорезаться звёзды. Показался маленький, похожий на ноготок, месяц. Стало светлее. Васютка вспомнил слова дедушки: «Вызвездило — к холоду!» — и на душе у него сделалось ещё тревожнее.
Чтобы отогнать худые мысли, Васютка старался думать сначала о доме, а потом ему вспомнилась школа, товарищи.
Васютка дальше Енисея ещё никогда не бывал и видел только один город — Игарку.
А много ли в жизни хотелось узнать и увидеть Васютке? Много. Узнает ли? Выберется ли из тайги? Затерялся в ней точно песчинка. А что теперь дома? Там, за тайгой, люди словно в другом мире: смотрят кино, едят хлеб… может, даже конфеты. Едят сколько угодно. В школе сейчас, наверное, готовятся встречать учеников. Над школьными дверями уже вывешен новый плакат, на котором крупно написано: «Добро пожаловать!»
Совсем приуныл Васютка. Жалко ему самого себя стало, начало донимать раскаяние. Не слушал вот он на уроках и в перемену чуть не на голове ходил, покуривал тайком. B школу съезжаются ребята со всей округи: тут и эвенки, тут и ненцы, и нганасаны. У них свои привычки. Бывало, достанет кто-нибудь из них на уроке трубку и без лишних рассуждений закуривает. Особенно грешат этим малыши — первоклассники. Они только что из тайги и никакой дисциплины не понимают. Станет учительница Ольга Фёдоровна толковать такому ученику насчёт вредности курева — он обижается; трубку отберут — ревёт. Сам Васютка тоже покуривал и им табачок давал.
— Эх, сейчас бы Ольгу Фёдоровну увидеть… — думал Васютка вслух. — Весь бы табак вытряхнул…
Устал Васютка за день, но сон не шёл. Он подбросил в костёр дров, снова лёг на спину. Облака исчезли. Далёкие и таинственные, перемигивались звёзды, словно звали куда-то. Вот одна из них ринулась вниз, прочертила тёмное небо и тут же растаяла. «Погасла звёздочка — значит, жизнь чья-то оборвалась», — вспомнил Васютка слова дедушки Афанасия.
Совсем горько стало Васютке.
«Может быть, увидели её наши?» — подумал он, натягивая на лицо телогрейку, и вскоре забылся беспокойным сном.
Проснулся Васютка поздно, от холода, и не увидел ни озера, ни неба, ни кустов. Опять кругом был клейкий, неподвижный туман. Только слышались с озера громкие и частые шлепки: это играла и кормилась рыба. Васютка встал, поёжился, раскопал уток, раздул угольки. Когда костёр разгорелся, он погрел спину, потом отрезал кусочек хлеба, взял одну утку и принялся торопливо есть. Мысль, которая вчера вечером беспокоила Васютку, снова полезла в голову: «Откуда в озере столько белой рыбы?» Он не раз слышал от рыбаков, что в некоторых озёрах будто бы водится белая рыба, но озёра эти должны быть или были когда-то проточными. «А что, если?..»
Да, если озеро проточное и из него вытекает речка, она в конце концов приведёт его к Енисею. Нет, лучше не думать. Вчера вон обрадовался — Енисей, Енисей, — а увидел шиш болотный. Не-ет, уж лучше не думать.
Покончив с уткой, Васютка ещё полежал у огня, пережидая, когда уляжется туман. Веки склеивались. Но и сквозь тягучую, унылую дремоту пробивалось: «Откуда всё же взялась в озере речная рыба?»
— Тьфу, нечистая сила! — выругался Васютка. — Привязалась как банный лист. «Откуда, откуда»! Ну, может, птицы икру на лапах принесли, ну, может, и мальков, ну, может… А, к лешакам всё! — Васютка вскочил и, сердито треща кустами, натыкаясь в тумане на валежины, начал пробираться вдоль берега. Вчерашней убитой утки на воде не обнаружил, удивился и решил, что её коршун утащил или съели водяные крысы.
Васютке казалось, что в том месте, где смыкаются берега, и есть конец озера, но он ошибся. Там был лишь перешеек. Когда туман растворился, перед мальчиком открылось большое, мало заросшее озеро, а то, возле которого он ночевал, было всего-навсего заливом — отголоском озера.
— Вот это да! — ахнул Васютка. — Вот где рыбищи-то, наверно… Уж здесь не пришлось бы зря сетями воду цедить. Выбраться бы, рассказать бы. — И, подбадривая себя, он прибавил: — А что? И выйду! Вот пойду, пойду и…
Тут Васютка заметил небольшой комочек, плавающий у перешейка, подошёл ближе и увидел убитую утку. Он так и обомлел: «Неужели моя? Как же её принесло сюда?!» Мальчик быстро выломал палку и подгрёб птицу к себе. Да, это была утка-свиязь с окрашенной в вишнёвый цвет головкой.
— Моя! Моя! — в волнении забормотал Васютка, бросая утку в мешок. — Моя уточка! — Его даже лихорадить начало. — Раз ветра не было, а утку отнесло, значит, есть тягун, озеро проточное!
И радостно, и как-то боязно было верить в это. Торопливо переступая с кочки на кочку, через бурелом, густые ягодники продирался Васютка. В одном месте почти из-под ног взметнулся здоровенный глухарь и сел неподалёку. Васютка показал ему кукиш:
— А этого не хочешь? Провалиться мне, если я ещё свяжусь с вашим братом!
Поднимался ветер.
Качнулись, заскрипели отжившие свой век сухие деревья. Над озером заполошной стаей закружились поднятые с земли и сорванные с деревьев листья. Застонали гагары, вещая непогоду. Озеро подёрнулось морщинами, тени на воде заколыхались, облака прикрыли солнце, вокруг стало хмуро, неуютно.
Далеко впереди Васютка заметил уходящую в глубь тайги жёлтую бороздку лиственного леса. Значит, там речка. От волнения у него пересохло в горле. «Опять какая-нибудь кишка озёрная. Мерещится, и всё», — засомневался Васютка, однако пошёл быстрее. Теперь он даже боялся остановиться попить: что, если наклонится к воде, поднимет голову и не увидит впереди яркой бороздки?
Пробежав с километр по едва приметному бережку, заросшему камышом, осокой и мелким кустарником, Васютка остановился и перевёл дух. Заросли сошли на нет, а вместо них появились высокие обрывистые берега.
— Вот она, речка! Теперь уж без обмана! — обрадовался Васютка.
Правда, он понимал, что речушки могут впадать не только в Енисей, но и в какое-нибудь другое озеро, но он не хотел про это думать. Речка, которую он так долго искал, должна привести его к Енисею, иначе… он обессилеет и пропадёт. Вон, с чего-то уж тошнит…
Чтобы заглушить тошноту, Васютка на ходу срывал гроздья красной смородины, совал их в рот вместе со стебельками. Рот сводило от кислятины и щипало язык, расцарапанный ореховой скорлупой.
Пошёл дождь. Сначала капли были крупные, редкие, потом загустело кругом, полилось, полилось…. Васютка приметил пихту, широко разросшуюся среди мелкого осинника, и залёг под неё. Не было ни желания, ни сил шевелиться, разводить огонь. Хотелось есть и спать. Он отковырнул маленький кусочек от чёрствой краюшки и, чтобы продлить удовольствие, не проглотил его сразу, а начал сосать. Есть захотелось ещё сильнее. Васютка выхватил остатки горбушки из мешка, вцепился зубами и, плохо разжёвывая, съел всю.
Дождь не унимался. От сильных порывов ветра качалась пихта, стряхивая за воротник Васютке холодные капли воды. Они ползли по спине. Васютка скорчился, втянул голову в плечи. Веки его сами собой начали смыкаться, будто повесили на них тяжёлые грузила, какие привязывают к рыболовным сетям.
Когда он очнулся, на лес уж спускалась темнота, смешанная с дождём. Было всё так же тоскливо; сделалось ещё холоднее.
— Ну и зарядил, окаянный! — обругал Васютка дождь.
Он засунул руки в рукава, прижался плотнее к стволу пихты и снова забылся тяжёлым сном. На рассвете Васютка, стуча зубами от холода, вылез из-под пихты, подышал на озябшие руки и принялся искать сухие дрова. Осинник за ночь разделся почти донага. Будто тоненькие пластинки свёклы, на земле лежали тёмно-красные листья. Вода в речке заметно прибыла. Лесная жизнь примолкла. Даже кедровки и те не подавали голоса.
Расправив полы ватника, Васютка защитил от ветра кучу веток и лоскуток берёсты. Спичек осталось четыре штуки. Не дыша, он чиркнул спичку о коробок, дал огоньку разгореться в ладонях и поднёс к берёсте. Она стала корчиться, свернулась в трубочку и занялась. Потянулся хвостик чёрного дыма. Сучки, шипя и потрескивая, разгорались. Васютка снял прохудившиеся сапоги, размотал грязные портянки. Ноги издрябли и сморщились от сырости. Он погрел их. Высушил сапоги и портянки, оторвал от кальсон тесёмки и подвязал ими державшуюся на трёх гвоздях подошву правого сапога.
Греясь возле костра, Васютка неожиданно уловил что-то похожее на комариный писк и замер. Через секунду звук повторился, вначале протяжно, потом несколько раз коротко.
«Гудок! — догадался Васютка. — Пароход гудит! Но почему же он слышится оттуда, с озера? А‑а, понятно».
Мальчик знал эти фокусы тайги: гудок всегда откликается на ближнем водоёме. Но гудит-то пароход на Енисее! В этом Васютка был уверен. Скорей, скорей бежать туда! Он так заторопился, будто у него был билет на этот самый пароход.
В полдень Васютка поднял с реки табун гусей, ударил по ним картечью и выбил двух. Он спешил, поэтому зажарил одного гуся на вертеле, а не в ямке, как это делал раньше. Осталось две спички, кончались и Васюткины силы. Хотелось лечь и не двигаться. Он мог бы отойти метров на двести-триста от речки. Там, по редколесью, было куда легче пробираться, но он боялся потерять речку из виду.
Мальчик брёл, почти падая от усталости. Неожиданно лес расступился, открыв перед Васюткой отлогий берег Енисея. Мальчик застыл. У него даже дух захватило — так красива, так широка была его родная река! А раньше она ему почему-то казалась обыкновенной и не очень приветливой. Он бросился вперёд, упал на край берега и жадными глотками стал хватать воду, шлёпать по ней руками, окунать в неё лицо.
— Енисеюшко! Славный, хороший… — шмыгал Васютка носом и размазывал грязными, пропахшими дымом руками слезы по лицу. От радости Васютка совсем очумел. Принялся прыгать, подбрасывать горстями песок. С берега поднялись стаи белых чаек и с недовольными криками закружились над рекой.
Так же неожиданно Васютка очнулся, перестал шуметь и даже несколько смутился, оглядываясь вокруг. Но никого нигде не было, и он стал решать, куда идти: вверх или вниз по Енисею? Место было незнакомое. Мальчик так ничего и не придумал. Обидно, конечно: может быть, дом близко, в нём мать, дедушка, отец, еды — сколько хочешь, а тут сиди и жди, пока кто-нибудь проплывёт, а плавают в низовьях Енисея не часто…
Васютка смотрит то вверх, то вниз по реке. Тянутся берега навстречу друг другу, хотят сомкнуться и теряются в просторе. Вон там, в верховьях реки, появился дымок. Маленький, будто от папиросы. Дымок становится всё больше и больше… Вот уж под ним обозначилась тёмная точка. Идёт пароход. Долго ещё ждать его. Чтобы как-нибудь скоротать время, Васютка решил умыться. Из воды на него глянул парнишка с заострившимися скулами. От дыма, грязи и ветра брови стали у него ещё темнее, а губы потрескались.
— Ну и дошёл же ты, дружище! — покачал головой Васютка.
А что, если бы дольше пришлось бродить?
Пароход всё приближался и приближался. Васютка уже видел, что это не обыкновенный пароход, а двухпалубный пассажирский теплоход. Васютка силился разобрать надпись и, когда наконец это ему удалось, с наслаждением прочитал вслух:
— «Серго Орджоникидзе».
На теплоходе маячили тёмные фигурки пассажиров. Васютка заметался на берегу.
— Э‑эй, пристаньте! Возьмите меня! Э‑эй!.. Слушайте!..
Кто-то из пассажиров заметил его и помахал рукой. Растерянным взглядом проводил Васютка теплоход.
— Эх, вы‑ы, ещё капитанами называетесь! «Серго Орджоникидзе», а человеку помочь не хотите…
Васютка понимал, конечно, что за долгий путь от Красноярска «капитаны» видели множество людей на берегу, около каждого не наостанавливаешься, — и всё-таки было обидно. Он начал собирать дрова на ночь.
Эта ночь была особенно длинной и тревожной. Васютке всё казалось, что кто-то плывёт по Енисею. То он слышал шлёпанье вёсел, то стук моторки, то пароходные гудки.
Под утро он и в самом деле уловил равномерно повторяющиеся звуки: бут-бут-бут-бут… Так могла стучать только выхлопная труба рыбосборочного катера-бота.
— Неужели дождался? — Васютка вскочил, протёр глаза и закричал: — Стучит! — и опять прислушался и начал, приплясывая, напевать: — Бот стучит, стучит, стучит!..
Тут же опомнился, схватил свои манатки и побежал по берегу навстречу боту. Потом кинулся назад и стал складывать в костёр все припасённые дрова: догадался, что у костра скорей его заметят. Взметнулись искры, высоко поднялось пламя. Наконец из предрассветной мглы выплыл высокий неуклюжий силуэт бота.
Васютка отчаянно закричал:
— На боте! Э‑эй, на боте! Остановитесь! Заблудился я! Э‑эй! Дяденьки! Кто там живой? Э‑эй, штурвальный!..
Он вспомнил про ружьё, схватил его и начал палить вверх: бах! бах! бах!
— Кто стреляет? — раздался гулкий, придавленный голос, будто человек говорил, не разжимая губ. Это в рупор спрашивали с бота.
— Да это я, Васька! Заблудился я! Пристаньте, пожалуйста! Пристаньте скорее!..
На боте послышались голоса, и мотор, будто ему сунули в горло паклю, заработал глуше. Раздался звонок, из выхлопной трубы вылетел клуб огня. Мотор затарахтел с прежней силой: бот подрабатывал к берегу.
Но Васютка никак не мог этому поверить и выпалил последний патрон.
— Дяденька, не уезжайте! — кричал он. — Возьмите меня! Возьмите!..
От бота отошла шлюпка.
Васютка кинулся в воду, побрёл навстречу, глотая слезы и приговаривая:
— За-заблудился я‑а, совсем заблудился‑а…
Потом, когда втащили его в шлюпку, заторопился:
— Скорее, дяденьки, плывите скорее, а то уйдёт ещё бот-то! Вон вчера пароход только мелькну-ул…
— Ты, малый, що, сказывся?! — послышался густой бас с кормы шлюпки, и Васютка узнал по голосу и смешному украинскому выговору старшину бота «Игарец».
— Дяденька Коляда! Это вы? А это я, Васька! — перестав плакать, заговорил мальчик.
— Який Васька?
— Да шадринский. Григория Шадрина, рыбного бригадира, знаете?
— Тю‑у! А як ты сюды попав?
И когда в тёмном кубрике, уплетая за обе щеки хлеб с вяленой осетриной, Васютка рассказывал о своих похождениях, Коляда хлопал себя по коленям и восклицал:
— Ай, скажэнный хлопець! Та на що тоби той глухарь сдався? Во налякав ридну маты и батьку…
— Ещё и дедушку…
Коляда затрясся от смеха:
— Ой, шо б тоби! Он и дида вспомнил! Ха-ха-ха! Ну и бисова душа! Да знаешь ли ты, дэ тебя вынесло?
— Не-е‑е.
— Шестьдесят километров ниже вашего стану.
— Ну‑у?
— Оце тоби и ну! Лягай давай спать, горе ты мое гиркое.
Васютка уснул на койке старшины, закутанный в одеяло и в одежду, какая имелась в кубрике.
А Коляда глядел на него, разводил руками и бормотал:
— Во, герой глухариный спит соби, а батько с маткой с глузду зъихалы…
Не переставая бормотать, он поднялся к штурвальному и приказал:
— На Песчаному острови и у Корасихи не будет остановки. Газуй прямо к Шадрину.
— Понятно, товарищ старшина, домчим хлопца мигом!
Подплывая к стоянке бригадира Шадрина, штурвальный покрутил ручку сирены. Над рекой понёсся пронзительный вой. Но Васютка не слышал сигнала.
На берёг спустился дедушка Афанасий и принял чалку с бота.
— Что это ты сегодня один-одинёшенек? — спросил вахтенный матрос, сбрасывая трап.
— Не говори, паря, — уныло отозвался дед. — Беда у нас, ой беда!.. Васютка, внук-то мой, потерялся. Пятый день ищем. Ох-хо-хо, парнишка-то был какой, парнишка-то, шустрый, востроглазый!..
— Почему был? Рано ты собрался его хоронить! Ещё с правнуками понянчишься! — И, довольный тем, что озадачил старика, матрос с улыбкой добавил: — Нашёлся ваш пацан, в кубрике спит себе и в ус не дует.
— Чего это? — встрепенулся дед и выронил кисет, из которого зачерпывал трубкой табак. — Ты… ты, паря, над стариком не смейся. Откудова Васютка мог на боте взяться?
— Правду говорю, на берегу мы его подобрали! Он там такую полундру устроил — все черти в болото спрятались!
— Да не треплись ты! Где Васютка-то? Давай его скорей! Цел ли он!
— Це-ел. Старшина пошёл его будить.
Дед Афанасий бросился было к трапу, но тут же круто повернул и засеменил наверх, к избушке:
— Анна! Анна! Нашёлся пескаришка-то! Анна! Где ты там? Скорее беги! Отыскался он…
В цветастом переднике, со сбившимся набок платком показалась Васюткина мать. Когда, она увидела спускавшегося по трапу оборванного Васютку, ноги её подкосились. Она со стоном осела на камни, протягивая руки навстречу сыну.
И вот Васютка дома! В избушке натоплено так, что дышать нечем. Накрыли его двумя стёгаными одеялами, оленьей дохой да ещё пуховой шалью повязали.
Лежит Васютка на топчане разомлевший, а мать и дедушка хлопочут около, простуду из него выгоняют. Мать натёрла его спиртом, дедушка напарил каких-то горьких, как полынь, корней и заставил пить это зелье.
— Может, ещё что-нибудь покушаешь, Васенька? — нежно, как у больного, спрашивала мать.
— Да мам, некуда уж…
— А если вареньица черничного? Ты ведь его любишь!
— Если черничного, ложки две, пожалуй, войдёт.
— Ешь, ешь!
— Эх ты, Васюха, Васюха! — гладил его по голове дедушка, — Как же ты сплоховал? Раз уж такое дело, не надо было метаться. Нашли бы тебя скоро. Ну да ладно, дело прошлое. Мука — вперёд наука. Да‑а, глухаря-то, говоришь, завалил всё-таки? Дело! Купим тебе новое ружьё на будущий год. Ты ещё медведя ухлопаешь. Помяни моё слово!
— Ни боже мой! — возмутилась мать. — Близко к избе вас с ружьём не подпущу. Гармошку, приёмник покупайте, а ружья чтобы и духу не было!
— Пошли бабьи разговоры! — махнул рукой дедушка, — Ну, поблукал маленько парень. Так что теперь, по-твоему, и в лес не ходить?
Дед подмигнул Васютке: дескать, не обращай внимания, будет новое ружьё — и весь сказ!
Мать хотела ещё что-то сказать, но на улице залаял Дружок, и она выбежала из избушки.
Из лесу, устало опустив плечи, в мокром дождевике, шёл Григорий Афанасьевич. Глаза его ввалились, лицо, заросшее густой чёрной щетиной, было мрачно.
— Напрасно всё, — отрешённо махнул он рукой. — Нету, пропал парень…
— Нашёлся! Дома он…
Григорий Афанасьевич шагнул к жене, минуту стоял растерянный, потом заговорил, сдерживая волнение:
— Ну, а зачем реветь? Нашёлся — и хорошо. К чему мокреть-то разводить? Здоров он? — и, не дожидаясь ответа, направился к избушке. Мать остановила его:
— Ты уж, Гриша, не особенно строго с ним. Он и так лиха натерпелся. Порассказывал, так мурашки по коже…
— Ладно, не учи!
Григорий Афанасьевич зашёл в избу, поставил в угол ружьё, снял дождевик.
Васютка, высунув голову из-под одеяла, выжидательно и робко следил за отцом. Дед Афанасий, дымя трубкой, покашливал.
— Ну, где ты тут, бродяга? — повернулся к Васютке отец, и губы его тронула чуть заметная улыбка.
— Вот он я! — привскочил с топчана Васютка, заливаясь счастливым смехом. — Укутала меня мамка, как девчонку, а я вовсе не простыл. Вот пощупай, пап. — Он протянул руку отца к своему лбу.
Григорий Афанасьевич прижал лицо сына к животу и легонько похлопал по спине:
— Затараторил, варнак! У‑у-у, лихорадка болотная! Наделал ты нам хлопот, попортил крови!.. Рассказывай, где тебя носило?
— Он всё про озеро какое-то толкует, — заговорил дед Афанасий. — Рыбы, говорит, в нём видимо-невидимо.
— Рыбных озёр мы и без него знаем много, да не вдруг на них попадёшь.
— А к этому, папка, можно проплыть, потому что речка из него вытекает.
— Речка, говоришь? — оживился Григорий Афанасьевич. — Интересно! Ну-ка, ну-ка, рассказывай, что ты там за озеро отыскал…
Через два дня Васютка, как заправский провожатый, шагал по берегу речки вверх, а бригада рыбаков на лодках поднималась следом за ним.
Погода стояла самая осенняя. Мчались куда-то мохнатые тучи, чуть не задевая вершины деревьев; шумел и качался лес; в небе раздавались тревожные крики птиц, тронувшихся на юг. Васютке теперь любая непогода была нипочём. В резиновых сапогах и в брезентовой куртке, он держался рядом с отцом, приноравливаясь к его шагу, и наговаривал:
— Они, гуси-то, как взлетя-ат сразу все, я ка-ак дам! Два на месте упали, а один ещё ковылял, ковылял и свалился в лесу, да я не пошёл за ним, побоялся от речки отходить.
На Васюткины сапоги налипли комья грязи, он устал, вспотел и нет-нет да и переходил на рысь, чтобы не отстать от отца.
— И ведь я их влёт саданул, гусей-то…
Отец не отзывался. Васютка посеменил молча и опять начал:
— А что? Влёт ещё лучше, оказывается, стрелять: сразу вон несколько ухлопал!
— Не хвались! — заметил отец и покачал головой. — И в кого ты такой хвастун растёшь? Беда!
— Да я и не хвастаюсь: раз правда, так что мне хвалиться, — сконфуженно пробормотал Васютка и перевёл разговор на другое. — А скоро, пап, будет пихта, под которой я ночевал. Ох и продрог я тогда!
— Зато сейчас, я вижу, весь сопрел. Ступай к дедушке в лодку, похвались насчёт гусей. Он любитель байки слушать. Ступай, ступай!
Васютка отстал от отца, подождал лодку, которую тянули бечевой рыбаки. Они очень устали, намокли, и Васютка постеснялся плыть в лодке и тоже взялся за бечеву и стал помогать рыбакам.
Когда впереди открылось широкое, затерявшееся среди глухой тайги озеро, кто-то из рыбаков сказал:
— Вот и озеро Васюткино…
С тех пор и пошло: Васюткино озеро, Васюткино озеро.
Рыбы в нём оказалось действительно очень много. Бригада Григория Шадрина, а вскоре и ещё одна колхозная бригада переключились на озёрный лов.
Зимой у этого озера была построена избушка. По снегу колхозники забросили туда рыбную тару, соль, сети и открыли постоянный промысел.
На районной карте появилось ещё одно голубое пятнышко, с ноготь величиной, под словами: «Васюткино оз.». На краевой карте это пятнышко всего с булавочную головку, уже без названия. На карте же нашей страны озеро это сумеет найти разве сам Васютка.
Может, видели вы на физической карте в низовьях Енисея пятнышки, будто небрежный ученик брызнул с пера голубыми чернилами? Вот где-то среди этих кляксочек и есть та, которую именуют Васюткиным озером.
2. Астафьев В. "Конь с розовой гривой"

Бабушка возвратилась от соседей и сказала мне, что левонтьевские ребятишки собираются на увал по землянику, и велела сходить с ними.
— Наберешь туесок. Я повезу свои ягоды в город, твои тоже продам и куплю тебе пряник.
— Конем, баба?
— Конем, конем.
Пряник конем! Это ж мечта всех деревенских малышей. Он белый-белый, этот конь. А грива у него розовая, хвост розовый, глаза розовые, копыта тоже розовые. Бабушка никогда не позволяла таскаться с кусками хлеба. Ешь за столом, иначе будет худо. Но пряник — совсем другое дело. Пряник можно сунуть под рубаху, бегать и слышать, как конь лягает копытами в голый живот. Холодея от ужаса — потерял, — хвататься за рубаху и со счастьем убеждаться — тут он, тут конь-огонь!
С таким конем сразу почету сколько, внимания! Ребята левонтьевские к тебе так и этак ластятся, и в чижа первому бить дают, и из рогатки стрельнуть, чтоб только им позволили потом откусить от коня либо лизнуть его. Когда даешь левонтьевскому Саньке или Таньке откусывать, надо держать пальцами то место, по которое откусить положено, и держать крепко, иначе Танька или Санька так цапнут, что останется от коня хвост да грива.
Левонтий, сосед наш, работал на бадогах вместе с Мишкой Коршуковым. Левонтий заготовлял лес на бадоги, пилил его, колол и сдавал на известковый завод, что был супротив села, по другую сторону Енисея. Один раз в десять дней, а может, и в пятнадцать — я точно не помню, — Левонтий получал деньги, и тогда в соседнем доме, где были одни ребятишки и ничего больше, начинался пир горой. Какая-то неспокойность, лихорадка, что ли, охватывала не только левонтьевский дом, но и всех соседей. Ранним еще утром к бабушке забегала тетка Васеня — жена дяди Левонтия, запыхавшаяся, загнанная, с зажатыми в горсти рублями.
— Кума! — испуганно-радостным голосом восклицала она. — Долг-от я принесла! — И Тут же кидалась прочь из избы, взметнув юбкою вихрь.
— Да стой ты, чумовая! — окликала ее бабушка. — Сосчитать ведь надо.
Тетка Васеня покорно возвращалась, и, пока бабушка считала деньги, она перебирала босыми ногами, ровно горячий конь, готовый рвануть, как только приотпустят вожжи.
Бабушка считала обстоятельно и долго, разглаживая каждый рубль. Сколько я помню, больше семи или десяти рублей из «запасу> на черный день бабушка никогда Левонтьихе не давала, потому как весь этот «запас> состоял, кажется, из десятки. Но и при такой малой сумме заполошная Васеня умудрялась обсчитаться на рубль, когда и на целый трояк.
— Ты как же с деньгами-то обращаешься, чучело безглазое! — напускалась бабушка на соседку. — Мне рупь, другому рупь! Что же это получится? Но Васеня опять взметывала юбкой вихрь и укатывалась.
— Передала ведь!
Бабушка еще долго поносила Левонтьиху, самого Левонтия, который, по ее убеждению, хлеба не стоил, а вино жрал, била себя руками по бедрам, плевалась, я подсаживался к окну и с тоской глядел на соседский дом.
Стоял он сам собою, на просторе, и ничего-то ему не мешало смотреть на свет белый кое-как застекленными окнами — ни забор, ни ворота, ни наличники, ни ставни. Даже бани у дяди Левонтия не было, и они, левонтьевские, мылись по соседям, чаще всего у нас, натаскав воды и подводу дров с известкового завода переправив.
В один благой день, может быть, и вечер дядя Левонтий качал зыбку и, забывшись, затянул песню морских скитальцев, слышанную в плаваниях, — он когда-то был моряком.
Приплыл по акияну
Из Африки матрос,
Малютку облизьяну
Он в ящике привез…
Семейство утихло, внимая голосу родителя, впитывая очень складную и жалостную песню. Село наше, кроме улиц, посадов и переулков, скроено и сложено еще и попесенно — у всякой семьи, у фамилии была «своя», коронная песня, которая глубже и полнее выражала чувства именно этой и никакой другой родни. Я и поныне, как вспомню песню «Монах красотку полюбил», — так и вижу Бобровский переулок и всех бобровских, и мураши у меня по коже разбегаются от потрясенности. Дрожит, сжимается сердце от песни «шахматовского колена»: «Я у окошечка сидела, Боже мой, а дождик капал на меня». И как забыть фокинскую, душу рвущую: «Понапрасну ломал я решеточку, понапрасну бежал из тюрьмы, моя милая, родная женушка у другого лежит на груди», или дяди моего любимую: «Однажды в комнате уютной», или в память о маме-покойнице, поющуюся до сих пор: «Ты скажи-ка мне, сестра…> Да где же все и всех-то упомнишь? Деревня большая была, народ голосистый, удалой, и родня в коленах глубокая и широкая.
Но все наши песни скользом пролетали над крышей поселенца дяди Левонтия — ни одна из них не могла растревожить закаменелую душу боевого семейства, и вот на тебе, дрогнули левонтьевские орлы, должно быть, капля-другая моряцкой, бродяжьей крови путалась в жилах детей, и она-то размыла их стойкость, и когда дети были сыты, не дрались и ничего не истребляли, можно было слышать, как в разбитые окна, и распахнутые двери выплескивается дружный хор:
Сидит она, тоскует
Все ночи напролет
И песенку такую
О родине поет:
«На теплом-теплом юге,
На родине моей,
Живут, растут подруги
И нет совсем людей…»
Дядя Левонтий подбуровливал песню басом, добавлял в нее рокоту, и оттого и песня, и ребята, и сам он как бы менялись обликом, красивше и сплоченней делались, и текла тогда река жизни в этом доме покойным, ровным руслом. Тетка Васеня, непереносимой чувствительности человек, оросив лицо и грудь слезьми, подвывая в старый прожженный фартук, высказывалась насчет безответственности человеческой — сгреб вот какой-то пьяный охламон облизьянку, утащил ее с родины невесть зачем и на че? А она вот, бедная, сидит и тоскует все ночи напролет… И, вскинувшись, вдруг впивалась мокрыми глазами в супруга — да уж не он ли, странствуя по белу свету, утворил это черно дело?! Не он ли свистнул облизьянку? Он ведь пьяный не ведает, чего творит!
Дядя Левонтий, покаянно принимающий все грехи, какие только возможно навесить на пьяного человека, морщил лоб, тужась понять: когда и зачем он увез из Африки обезьяну? И, коли увез, умыкнул животную, то куда она впоследствии делась?
Весною левонтьевское семейство ковыряло маленько землю вокруг дома, возводило изгородь из жердей, хворостин, старых досок. Но зимой все это постепенно исчезало в утробе русской печи, раскорячившейся посреди избы.
Танька левонтьевская так говаривала, шумя беззубым ртом, обо всем ихнем заведенье:
— Зато как тятька шурунет нас — бегишь и не запнешша.
Сам дядя Левонтий в теплые вечера выходил на улицу в штанах, державшихся на единственной медной пуговице с двумя орлами, в бязевой рубахе, вовсе без пуговиц. Садился на истюканный топором чурбак, изображавший крыльцо, курил, смотрел, и если моя бабушка корила его в окно за безделье, перечисляла работу, которую он должен был, по ее разумению, сделать в доме и вокруг дома, дядя Левонтий благодушно почесывался.
— Я, Петровна, слободу люблю! — и обводил рукою вокруг себя:
— Хорошо! Как на море! Ништо глаз не угнетат!
Дядя Левонтий любил море, а я любил его. Главная цель моей жизни была прорваться в дом Левонтия после его получки, послушать песню про малютку обезьяну и, если потребуется, подтянуть могучему хору. Улизнуть не так-то просто. Бабушка знает все мои повадки наперед.
— Нечего куски выглядывать, — гремела она. — Нечего этих пролетарьев объедать, у них самих в кармане — вошь на аркане.
Но если мне удавалось ушмыгнуть из дома и попасть к левонтьевским, тут уж все, тут уж я окружен бывал редкостным вниманием, тут мне полный праздник.
— Выдь отсюдова! — строго приказывал пьяненький дядя Левонтий кому-нибудь из своих парнишек. И пока кто-либо из них неохотно вылезал из-за стола, пояснял детям свое строгое действие уже обмякшим голосом: — Он сирота, а вы всешки при родителях! — И, жалостно глянув на меня, взревывал: — Мать-то ты хоть помнишь ли? Я утвердительно кивал. Дядя Левонтий горестно облокачивался на руку, кулачищем растирал по лицу слезы, вспоминая; — Бадоги с ней по один год кололи-и-и! — И совсем уж разрыдавшись: — Когда ни придешь… ночь-полночь… пропа… пропащая ты голова, Левонтий, скажет и… опохмелит…
Тетка Васеня, ребятишки дяди Левонтия и я вместе с ними ударялись в рев, и до того становилось жалостно в избе, и такая доброта охватывала людей, что все-все высыпалось и вываливалось на стол и все наперебой угощали меня и сами ели уже через силу, потом затягивали песню, и слезы лились рекой, и горемычная обезьяна после этого мне снилась долго.
Поздно вечером либо совсем уже ночью дядя Левонтий задавал один и тот же вопрос: «Что такое жисть?!> После чего я хватал пряники, конфеты, ребятишки левонтьевские тоже хватали что попадало под руки и разбегались кто куда.
Последней ходу задавала Васеня, и бабушка моя привечала ее до утра. Левонтий бил остатки стекол в окнах, ругался, гремел, плакал.
На следующее утро он осколками стеклил окна, ремонтировал скамейки, стол и, полный мрака и раскаяния, отправлялся на работу. Тетка Васеня дня через три-четыре снова ходила по соседям и уже не взметывала юбкою вихрь, снова занимала до получки денег, муки, картошек — чего придется.
Вот с орлами-то дяди Левонтия и отправился я по землянику, чтобы трудом своим заработать пряник. Ребятишки несли бокалы с отбитыми краями, старые, наполовину изодранные на растопку, берестяные туески, кринки, обвязанные по горлу бечевками, у кого ковшики без ручек были. Парнишки вольничали, боролись, бросали друг в друга посудой, ставили подножки, раза два принимались драться, плакали, дразнились. По пути они заскочили в чей-то огород, и, поскольку там еще ничего не поспело, напластали беремя луку-батуна, наелись до зеленой слюны, остатки побросали. Оставили несколько перышек на свистульки. В обкусанные перья они пищали, приплясывали, под музыку шагалось нам весело, и мы скоро пришли на каменистый увал. Тут все перестали баловаться, рассыпались по лесу и начали брать землянику, только-только еще поспевающую, белобокую, редкую и потому особенно радостную и дорогую.
Я брал старательно и скоро покрыл дно аккуратненького туеска стакана на два-три.
Бабушка говорила: главное в ягодах — закрыть дно посудины. Вздохнул я с облегчением и стал собирать землянику скорее, да и попадалось ее выше по увалу больше и больше.
Левонтьевские ребятишки сначала ходили тихо. Лишь позвякивала крышка, привязанная к медному чайнику. Чайник этот был у старшего парнишки, и побрякивал он, чтобы мы слышали, что старшой тут, поблизости, и бояться нам нечего и незачем.
Вдруг крышка чайника забренчала нервно, послышалась возня.
— Ешь, да? Ешь, да? А домой че? А домой че? — спрашивал старшой и давал кому-то тумака после каждого вопроса.
— А-га-га-гааа! — запела Танька. — Шанька шажрал, дак ничо-о-о…
Попало и Саньке. Он рассердился, бросил посудину и свалился в траву. Старшой брал, брал ягоды да и задумался: он для дома старается, а те вон, дармоеды, жрут ягоды либо вовсе на траве валяются. Подскочил старшой и пнул Саньку еще раз. Санька взвыл, кинулся на старшого. Зазвенел чайник, брызнули из него ягоды. Бьются братья богатырские, катаются по земле, всю землянику раздавили.
После драки и у старшого опустились руки. Принялся он собирать просыпанные, давленые ягоды — и в рот их, в рот.
— Значит, вам можно, а мне, значит, нельзя! Вам можно, а мне, значит, нельзя? — зловеще спрашивал он, пока не съел все, что удалось собрать.
Вскоре братья как-то незаметно помирились, перестали обзываться и решили спуститься к Фокинской речке, побрызгаться.
Мне тоже хотелось к речке, тоже бы побрызгаться, но я не решался уйти с увала, потому что еще не набрал полную посудину.
— Бабушки Петровны испугался! Эх ты! — закривлялся Санька и назвал меня поганым словом. Он много знал таких слов. Я тоже знал, научился говорить их у левонтьевских ребят, но боялся, может, стеснялся употреблять поганство и несмело заявил:
— Зато мне бабушка пряник конем купит!
— Может, кобылой? — усмехнулся Санька, плюнул себе под ноги и тут же что-то смекнул; — Скажи уж лучше — боишься ее и еще жадный!
— Я?
— Ты!
— Жадный?
— Жадный!
— А хочешь, все ягоды съем? — сказал я это и сразу покаялся, понял, что попался на уду. Исцарапанный, с шишками на голове от драк и разных других причин, с цыпками на руках и ногах, с красными окровенелыми глазами, Санька был вреднее и злее всех левонтьевских ребят.
— Слабо! — сказал он.
— Мне слабо! — хорохорился я, искоса глядя в туесок. Там было ягод уже выше середины. — Мне слабо?! — повторял я гаснущим голосом и, чтобы не спасовать, не струсить, не опозориться, решительно вытряхнул ягоды на траву: — Вот! Ешьте вместе со мной!
Навалилась левонтьевская орда, ягоды вмиг исчезли. Мне досталось всего несколько малюсеньких, гнутых ягодок с прозеленью. Жалко ягод. Грустно. Тоска на сердце — предчувствует оно встречу с бабушкой, отчет и расчет. Но я напустил на себя отчаянность, махнул на все рукой — теперь уже все равно. Я мчался вместе с левонтьевскими ребятишками под гору, к речке, и хвастался:
— Я еще у бабушки калач украду!
Парни поощряли меня, действуй, мол, и не один калач неси, шанег еще прихвати либо пирог — ничего лишнее не будет.
— Ладно!
Бегали мы по мелкой речке, брызгались студеной водой, опрокидывали плиты и руками ловили подкаменщика — пищуженца. Санька ухватил эту мерзкую на вид рыбину, сравнил ее со срамом, и мы растерзали пищуженца на берегу за некрасивый вид. Потом пуляли камни в пролетающих птичек, подшибли белобрюшку. Мы отпаивали ласточку водой, но она пускала в речку кровь, воды проглотить на могла и умерла, уронив головку. Мы похоронили беленькую, на цветочек похожую птичку на берегу, в гальке и скоро забыли о ней, потому что занялись захватывающим, жутким делом: забегали в устье холодной пещеры, где жила (это в селе доподлинно знали) нечистая сила. Дальше всех в пещеру забежал Санька — его и нечистая сила не брала!
— Это еще че! — хвалился Санька, воротившись из пещеры. — Я бы дальше побег, в глыбь побег ба, да босый я, там змеев гибель.
— Жмеев?! — Танька отступила от устья пещеры и на всякий случай подтянула спадающие штанишки.
— Домовниху с домовым видел, — продолжал рассказывать Санька.
— Хлопуша! Домовые на чердаке живут да под печкой! — срезал Саньку старшой.
Санька смешался было, однако тут же оспорил старшого:
— Дак тама какой домовой-то? Домашний. А тут пещернай. В мохе весь, серай, дрожмя дрожит — студено ему. А домовниха худа-худа, глядит жалобливо и стонет. Да меня не подманишь, подойди только — схватит и слопает. Я ей камнем в глаз залимонил!..
Может, Санька и врал про домовых, но все равно страшно было слушать, чудилось — вот совсем близко в пещере кто-то все стонет, стонет. Первой дернула от худого места Танька, следом за нею и остальные ребята с горы посыпались. Санька свистнул, заорал дурноматом, поддавая нам жару.
Так интересно и весело мы провели весь день, и я совсем уже забыл про ягоды, но наступила пора возвращаться домой. Мы разобрали посуду, спрятанную под деревом.
— Задаст тебе Катерина Петровна! Задаст! — заржал Санька. — Ягоды-то мы съели! Ха-ха! Нарошно съели! Ха-ха! Нам-то ништяк! Ха-ха! А тебе-то хо-хо!..
Я и сам знал, что им-то, левонтьевским, «ха-ха!», а мне «хо-хо!». Бабушка моя, Катерина Петровна, не тетка Васеня, от нее враньем, слезами и разными отговорками не отделаешься.
Тихо плелся я за левонтьевскими ребятами из лесу. Они бежали впереди меня гурьбой, гнали по дороге ковшик без ручки. Ковшик звякал, подпрыгивал на камнях, от него отскакивали остатки эмалировки.
— Знаешь че? — проговорив с братанами, вернулся ко мне Санька. — Ты в туес травы натолкай, сверху ягод — и готово дело! Ой, дитятко мое! — принялся с точностью передразнивать мою бабушку Санька. — Пособил тебе воспо-одь, сиротинке, пособи-ил. — И подмигнул мне бес Санька, и помчался дальше, вниз с увала, домой.
А я остался.
Утихли голоса ребятни под увалом, за огородами, жутко сделалось. Правда, село здесь слышно, а все же тайга, пещера недалеко, в ней домовниха с домовым, змеи кишмя кишат. Повздыхал я, повздыхал, чуть было не всплакнул, но надо было слушать лес, траву, домовые из пещеры не подбираются ли. Тут хныкать некогда. Тут ухо востро держи. Я рвал горстью траву, а сам озирался по сторонам. Набил травою туго туесок, на бычке, чтоб к свету ближе и дома видать, собрал несколько горсток ягодок, заложил ими траву — получилось земляники даже с копной.
— Дитятко ты мое! — запричитала бабушка, когда я, замирая от страха, передал ей посудину. — Восподь тебе пособил, воспо-дь! Уж куплю я тебе пряник, самый большущий. И пересыпать ягодки твои не стану к своим, прямо в этом туеске увезу…
Отлегло маленько.
Я думал, сейчас бабушка обнаружит мое мошенничество, даст мне что полагается, и уже приготовился к каре за содеянное злодейство. Но обошлось. Все обошлось. Бабушка унесла туесок в подвал, еще раз похвалила меня, дала есть, и я подумал, что бояться мне пока нечего и жизнь не так уж худа.
Я поел, отправился на улицу играть, и там дернуло меня сообщить обо всем Саньке.
— А я расскажу Петровне! А я расскажу!..
— Не надо, Санька!
— Принеси калач, тогда не расскажу.
Я пробрался тайком в кладовку, вынул из ларя калач и принес его Саньке, под рубахой. Потом еще принес, потом еще, пока Санька не нажрался.
«Бабушку надул. Калачи украл! Что только будет?> — терзался я ночью, ворочаясь на полатях. Сон не брал меня, покой «андельский> не снисходил на мою жиганью, на мою варначью душу, хотя бабушка, перекрестив на ночь, желала мне не какого-нибудь, а самого что ни на есть «андельского», тихого сна.
— Ты чего там елозишь? — хрипло спросила из темноты бабушка. — В речке небось опять бродил? Ноги опять болят?
— Не-е, — откликнулся я. — Сон приснился…
— Спи с Богом! Спи, не бойся. Жизнь страшнее снов, батюшко…
«А что, если слезть с полатей, забраться к бабушке под одеяло и все-все рассказать?»
Я прислушался. Снизу доносилось трудное дыхание старого человека. Жалко будить, устала бабушка. Ей рано вставать. Нет уж, лучше я не буду спать до утра, скараулю бабушку, расскажу обо всем: и про туесок, и про домовниху с домовым, и про калачи, и про все, про все…
От этого решения мне стало легче, и я не заметил, как закрылись глаза. Возникла Санькина немытая рожа, потом замелькал лес, трава, земляника, завалила она и Саньку, и все, что виделось мне днем.
На полатях запахло сосняком, холодной таинственной пещерой, речка прожурчала у самых ног и смолкла…
Дедушка был на заимке, километрах в пяти от села, в устье реки Маны. Там у нас посеяна полоска ржи, полоска овса и гречи да большой загон посажен картошек. О колхозах тогда еще только начинались разговоры, и селяне наши жили пока единолично. У дедушки на заимке я любил бывать. Спокойно у него там, обстоятельно, никакого утеснения и надзора, бегай хоть до самой ночи. Дедушка никогда и ни на кого не шумел, работал неторопливо, но очень уемисто и податливо.
Ах, если бы заимка была ближе! Я бы ушел, скрылся. Но пять километров для меня были тогда непреодолимым расстоянием. И Алешки нет, чтобы с ним вместе умотать. Недавно приезжала тетка Августа и забрала Алешку с собой на лесоучасток, куда она поступила работать.
Слонялся я, слонялся по пустой избе и ничего другого не мог придумать, как податься к левонтьевским.
— Уплыла Петровна! — ухмыльнулся Санька и цыркнул слюной в дырку меж передних зубов. У него в этой дырке мог поместиться еще один зуб, и мы были без ума от этой Санькиной дырки. Как он в нее цыркал слюной!
Санька собирался на рыбалку, распутывал леску. Малые его братья и сестры толкались подле, бродили вокруг скамеек, ползали, ковыляли на кривых ногах.
Санька раздавал затрещины направо и налево — малые лезли под руку, путали леску.
— Крючка нету, — сердито буркнул он, — проглотил, должно, который-то.
— Помрет?
— Ништя-ак! — успокоил меня Санька. — Переварят. У тебя много крючков, дай. Я тебя с собой возьму.
— Идет.
Я помчался домой, схватил удочки, хлеба в карман сунул, и мы подались к каменным бычкам, за поскотину, спускавшуюся прямо в Енисей по-за логом.
Старшого дома не было. Его взял с собой «на бадоги> отец, и Санька командовал напропалую. Поскольку был он сегодня старшим и чувствовал большую ответственность, то уж не задирался зря и, мало того, усмирял «народ», если тот начинал свалку.
У бычков Санька поставил удочки, наживил червяков, поклевал на них и «с руки> закинул лески, чтобы дальше закинулось, — всем известно: чем дальше и глубже, тем больше рыбы и крупней она.
— Ша! — вытаращил глаза Санька, и мы покорно замерли. Долго не клевало. Мы устали ждать, начали толкаться, хихикать, дразниться. Санька терпел, терпел и прогнал нас искать щавель, береговой чеснок, дикую редьку, иначе, мол, он за себя не ручается, иначе он всем нам нащелкает. Левонтьевские ребята умели пропитаться «от земли», ели все, что Бог пошлет, ничем не брезговали и оттого были краснорожие, сильные, ловкие, особенно за столом.
Без нас у Саньки в самом деле заклевало. Пока мы собирали пригодную для жратвы зелень, он вытащил двух ершей, пескаря и белоглазого ельчика. Развели огонь на берегу. Санька вздел на палочки рыб, приспособил их жарить, ребятишки окружили костерок и не спускали глаз с жарева. «Са-ань! — заныли они скоро. — Уж изварилось! Са-ань!..»
— Н-ну, прорвы! Н-ну, прорвы! Ужели не видите, что ерш жабрами зеват? Токо бы слопать поскореича. А ну как брюхо схватит, понос ешли?..
— Понос у Витьки Катерининого быват. У нас не-эт.
— Я че сказал?!
Смолкли орлы боевые. С Санькой не больно турусы разведешь, он, чуть чего, и навтыкает. Терпят малые, швыркают носами; норовят огонь пожарче сладить. Однако терпенья хватает ненадолго.
— Ну, Са-ань, вон уж прямо уголь…
— Подавитесь!
Ребята сцапали палочки с жареной рыбой, разорвали на лету и на лету же, постанывая от горячего, съели их почти сырыми, без соли и хлеба, съели и в недоумении огляделись: уже?! Столько ждали, столько терпели и только облизнулись. Хлеб мой ребятишки тоже незаметно смолотили и занялись кто чем: вытаскивали из норок береговушек, «блинали> каменными плиточками по воде, пробовали купаться, но вода была еще холодная, быстро выскочили из реки — отогреваться у костра. Отогрелись и упали в еще низкую траву, чтоб не видать, как Санька жарит рыбу, теперь уже себе, теперь его черед, и тут уж проси не проси — могила. Не даст, потому как сам пожрать любит пуще всех.
День был ясный, летний. Сверху пекло. Возле поскотины клонились к земле рябенькие кукушкины башмачки. На длинных хрустких стеблях болтались из стороны в сторону синие колокольчики, и, наверное, только пчелы слышали, как они звенели. Возле муравейника на обогретой земле лежали полосатые цветки-граммофончики, и в голубые их рупоры совали головы шмели. Они надолго замирали, выставив мохнатые зады, должно быть, заслушивались музыкой. Березовые листья блестели, осинник сомлел от жары, сосняк по увалам был весь в синем куреве. Над Енисеем солнечно мерцало. Сквозь это мерцание едва проглядывали красные жерла известковых печей, полыхающих по ту сторону реки. Тени скал лежали недвижно на воде, и светом их размыкало, рвало в клочья, будто старое тряпье. Железнодорожный мост в городе, видимый из нашего села в ясную погоду, колыхался тонким кружевцем, и, если долго смотреть на него, — кружевце истоньшалось и рвалось.
Оттуда, из-за моста, должна приплыть бабушка. Что только будет! И зачем я так сделал? Зачем послушался левонтьевских? Вон как хорошо было жить. Ходи, бегай, играй и ни о чем не думай. А теперь что? Надеяться теперь не на что. Разве что на нечаянное какое избавление. Может, лодка опрокинется и бабушка утонет? Нет уж, лучше пусть не опрокидывается. Мама утонула. Чего хорошего? Я нынче сирота. Несчастный человек. И пожалеть меня некому. Левонтий только пьяный жалеет да еще дедушка — и все, бабушка только кричит, еще нет-нет да поддаст — у нее не задержится. Главное, дедушки нет. На заимке дедушка. Он бы не дал меня в обиду. Бабушка и на него кричит: «Потатчик! Своим всю жизнь потачил, теперь этого!..> «Дедушка ты дедушка, хоть бы ты в баню мыться приехал, хоть бы просто так приехал и взял бы меня с собою! »
-Ты чего нюнишь? — наклонился ко мне Санька с озабоченным видом.
— Ничего-о-о! — голосом я давал понять, что это он, Санька, довел меня до такой жизни.
— Ништя-ак! — утешил меня Санька. — Не ходи домой, и все! Заройся в сено и притаись. Петровна видела у твоей матери глаз приоткрытый, когда ее хоронили. Боится — ты тоже утонешь. Вот она как запричитает: «Утону-у-ул мой дитятко, спокинул меня, сиротиночка», — ты тут и вылезешь!..
— Не буду так делать! — запротестовал я. — И слушаться тебя не буду!..
— Ну и лешак с тобой! Об тебе же стараются. Во! Клюнуло! У тебя клюнуло!
Я свалился с яра, переполошив береговушек в дырках, и рванул удочку. Попался окунь. Потом ерш. Подошла рыба, начался клев. Мы наживляли червяков, закидывали.
— Не перешагивай через удилище! — суеверно орал Санька на совсем ошалевших от восторга малышей и таскал, таскал рыбешек. Парнишонки надевали их на ивовый прут, опускали в воду и кричали друг на дружку: «Кому говорено — не пересекай удочку?!»
Вдруг за ближним каменным бычком защелкали по дну кованые шесты, из-за мыса показалась лодка. Трое мужиков разом выбрасывали из воды шесты. Сверкнув отшлифованными наконечниками, шесты разом падали в воду, и лодка, зарывшись по обводы в реку, рвалась вперед, откидывая на стороны волны. Взмах шестов, перекидка рук, толчок — лодка вспрыгнула носом, ходко подалась вперед. Она ближе, ближе. Вот уж кормовой двинул шестом, и лодка кивнула в сторону от наших удочек. И тут я увидел сидящего на беседке еще одного человека. Полушалок на голове, концы его пропущены под мышки и крест-накрест завязаны на спине. Под полушалком крашенная в бордовый цвет кофта. Вынималась эта кофта из сундука по большим праздникам и по случаю поездки в город.
Я рванул от удочек к яру, подпрыгнул, ухватился за траву, засунув большой палец ноги в норку. Подлетела береговушка, тюкнула меня по голове, я с перепугу упал на комья глины, подскочил и бежать по берегу, прочь от лодки.
— Ты куда! Стой! Стой, говорю! — кричала бабушка.
Я мчался во весь дух.
— Я-а-авишша, я-авишша домой, мошенник!
Мужики поддали жару.
— Держи его! — крикнули из лодки, и я не заметил, как оказался на верхнем конце села, куда и одышка, всегда меня мучающая, девалась! Я долго отдыхивался и скоро обнаружил — подступает вечер — волей-неволей надо возвращаться домой. Но я не хотел домой и на всякий случай подался к двоюродному братишке Кеше, дяди Ваниному сыну, жившему здесь, на верхнем краю села.
Мне повезло. Возле дяди Ваниного дома играли в лапту. Я ввязался в игру и пробегал до темноты. Появилась тетя Феня, Кешкина мать, и спросила меня:
— Ты почему домой не идешь? Бабушка потеряет тебя.
— Не-е, — ответил я как можно беспечнее. — Она в город уплыла. Может, ночует там.
Тетя Феня предложила мне поесть, и я с радостью смолотил все, что она мне дала, тонкошеий Кеша попил вареного молока, и мать ему сказала с укором:
— Все на молочке да на молочке. Гляди вон, как ест парнишка, оттого и крепок, как гриб боровик. — Мне поглянулась тети Фенина похвала, и я уже тихо надеяться стал, что она меня и ночевать оставит.
Но тетя Феня порасспрашивала, порасспрашивала меня обо всем, после чего взяла за руку и отвела домой.
В нашей избе уже не было свету. Тетя Феня постучала к окно. «Не заперто!> — крикнула бабушка. Мы вошли в темный и тихий дом, где только и слышалось многокрылое постукивание бабочек да жужжание бьющихся о стекло мух.
Тетя Феня оттеснила меня в сени, втолкнула в пристроенную к сеням кладовку. Там была налажена постель из половиков и старого седла в головах — на случай, если днем кого-то сморит жара и ему захочется отдохнуть в холодке.
Я зарылся в половик, притих, слушая.
Тетя Феня и бабушка о чем-то разговаривали в избе, но о чем — не разобрать. В кладовке пахло отрубями, пылью и сухой травой, натыканной во все щели и под потолком. Трава эта все чего-то пощелкивала да потрескивала. Тоскливо было в кладовке. Темень была густа, шероховата, заполненная запахами и тайной жизнью. Под полом одиноко и робко скреблась мышь, голодающая из-за кота. И все потрескивали сухие травы да цветы под потолком, открывали коробочки, сорили во тьму семечки, два или три запутались в моих полосах, но я их не вытаскивал, страшась шевельнуться.
На селе утверждалась тишина, прохлада и ночная жизнь. Убитые дневною жарою собаки приходили в себя, вылазили из-под сеней, крылец, из конур и пробовали голоса. У моста, что положен через Фокинскую речку, пиликала гармошка. На мосту у нас собирается молодежь, пляшет там, поет, пугает припозднившихся ребятишек и стеснительных девчонок.
У дяди Левонтия спешно рубили дрова. Должно быть, хозяин принес чего-то на варево. У кого-то левонтьевские «сбодали> жердь? Скорей всего у нас. Есть им время промышлять в такую пору дрова далеко…
Ушла тетя Феня, плотно прикрыла дверь в сенках. Воровато прошмыгнул ко крыльцу кот. Под полом стихла мышь. Стало совсем темно и одиноко. В избе не скрипели половицы, не ходила бабушка. Устала. Не ближний путь в город-то! Восемнадцать верст, да с котомкой. Мне казалось, что, если я буду жалеть бабушку, думать про нее хорошо, она об этом догадается и все мне простит. Придет и простит. Ну разок и щелкнет, так что за беда! За такое дело и не разок можно…
Однако бабушка не приходила. Мне сделалось холодно. Я свернулся калачиком и дышал себе на грудь, думая про бабушку и про все жалостное.
Когда утонула мама, бабушка не уходила с берега, ни унести, ни уговорить ее всем миром не могли. Она все кликала и звала маму, бросала в реку крошки хлебушка, серебрушки, лоскутки, вырывала из головы волосы, завязывала их вокруг пальца и пускала по течению, надеясь задобрить реку, умилостивить Господа.
Лишь на шестые сутки бабушку, распустившуюся телом, почти волоком утащили домой. Она, словно пьяная, бредово что-то бормотала, руки и голова ее почти доставали землю, волосья на голове расплетались, висели над лицом, цеплялись за все и оставались клочьями на бурьянe. на жердях и на заплотах.
Бабушка упала среди избы на голый пол, раскинув руки, и так вот спала, не раздетая, в скоробленных опорках, словно плыла куда-то, не издавая ни шороха, ни звука, и доплыть не могла. В доме говорили шепотом, ходили ца цыпочках, боязно наклонялись над бабушкой, думая, что она умерла. Но из глубины бабушкиного нутра, через стиснутые зубы шел непрерывный стон, словно бы придавило что-то или кого-то там, в бабушке, и оно мучилось от неотпускающей, жгучей боли.
Очнулась бабушка ото сна сразу, огляделась, будто после обморока, и стала подбирать волосы, сплетать их в косу, держа тряпочку для завязки косы в зубах. Деловито и просто не сказала, а выдохнула она из себя: «Нет, не дозваться мне Лиденьку, не дозваться. Не отдает ее река. Близко где-то, совсем близко держит, но не отдает и не показывает…»
А мама и была близко. Ее затянуло под сплавную бону против избы Вассы Вахрамеевны, она зацепилась косой за перевязь бон и моталась, моталась там до тех пор, пока не отопрели волосы и не оторвало косу. Так они и мучились: мама в воде, бабушка на берегу, мучились страшной мукой неизвестно за чьи тяжкие грехи…
Бабушка узнала и рассказала мне, когда я подрос, что в маленькую долбленую лодку набилось восемь человек отчаянных овсянских баб и один мужик на корме — наш Кольча-младший. Бабы все с торгом, в основном с ягодой — земляникой, и, когда лодка опрокинулась, по воде, ширясь, понеслась красная яркая полоса, и сплавщики с катера, спасавшие людей, закричали: «Кровь! Кровь! Разбило о бону кого-то…> Но по реке плыла земляника. У мамы тоже была кринка земляники, и алой струйкой слилась она с красной полосой. Может, и мамина кровь от удара головой о бону была там, текла и вилась вместе с земляникой по воде, да кто ж узнает, кто отличит в панике, в суете и криках красное от красного?
Проснулся я от солнечного луча, просочившегося в мутное окошко кладовки и ткнувшегося мне в глаза. В луче мошкой мельтешила пыль. Откуда-то наносило заимкой, пашнею. Я огляделся, и сердце мое радостно подпрыгнуло: на меня был накинут дедушкин старенький полушубок. Дедушка приехал ночью. Красота! На кухне бабушка кому-то обстоятельно рассказывала:
-…Культурная дамочка, в шляпке. «Я эти вот ягодки все куплю». Пожалуйста, милости прошу. Ягодки-то, говорю, сиротинка горемышный собирал…
Тут я провалился сквозь землю вместе с бабушкой и уже не мог и не желал разбирать, что говорила она дальше, потому что закрылся полушубком, забился в него, чтобы скорее помереть. Но сделалось жарко, глухо, стало нечем дышать, и я открылся.
— Своих вечно потачил! — гремела бабушка. — Теперь этого! А он уж мошенничат! Че потом из него будет? Жиган будет! Вечный арестант! Я вот еще левонтьевских, пятнай их, в оборот возьму! Это ихняя грамота!..
Убрался дед во двор, от греха подальше, чего-то тюкает под навесом. Бабушка долго одна не может, ей надо кому-то рассказывать о происшествии либо разносить вдребезги мошенника, стало быть, меня, и она тихонько прошла по сеням, приоткрыла дверь в кладовку. Я едва успел крепко-накрепко сомкнуть глаза.
— Не спишь ведь, не спишь! Все-о вижу!
Но я не сдавался. Забежала в дом тетка Авдотья, спросила, как «тета> сплавала в город. Бабушка сказала, что «сплавала, слава Тебе, Господи, ягоденки продала сходно», и тут же принялась повествовать:
— Мой-то! Малой-то! Чего утворил!.. Послушай-ко, послушай-ко, девка!
В это утро к нам приходило много людей, и всех бабушка задерживала, чтоб поведать: «А мой-то! Малой-то!> И это ей нисколько не мешало исполнять домашние дела — она носилась взад-вперед, доила корову, выгоняла ее к пастуху, вытряхивала половики, делала разные свои дела и всякий раз, пробегая мимо дверей кладовки, не забывала напомнить:
— Не спишь ведь, не спишь! Я все-о вижу!
Но я твердо верил: управится по дому и уйдет. Не вытерпит, чтобы не поделиться новостями, почерпнутыми в городе, и узнать те новости, которые свершились без нее на селе. И каждому встречному и поперечному бабушка с большой охотой будет твердить: «А мой-то! Малой-то!»
В кладовку завернул дедушка, вытянул из-под меня кожаные вожжи и подмигнул:
«Ничего, дескать, терпи и не робей!», да еще и по голове меня погладил. Я заширкал носом и так долго копившиеся слезы ягодой, крупной земляникой, пятнай ее, сыпанули из моих глаз, и не было им никакого удержу.
— Ну, што ты, што ты? — успокаивал меня дед, обирая большой рукой слезы с моего лица. — Чего голоднай-то лежишь? Попроси прошшенья… Ступай, ступай, — легонько подтолкнул меня дед в спину.
Придерживая одной рукой штаны, прижав другую локтем к глазам, я ступил в избу и завел:
— Я больше… Я больше… Я больше… — и ничего не мог дальше сказать.
— Ладно уж, умывайся да садись трескать! — все еще непримиримо, но уже без грозы, без громов оборвала меня бабушка. Я покорно умылся, долго возил по лицу сырым рукотерником и вспомнил, что ленивые люди, по заверению бабушки, всегда сырым утираются, потому что всех позднее встают. Надо было двигаться к столу, садиться, глядеть на людей. Ах ты Господи! Да чтобы я еще хоть раз сплутовал! Да я…
Содрогаясь от все еще не прошедших всхлипов, я прилепился к столу. Дед возился на кухне, сматывал на руку старую, совсем, понимал я, ненужную ему веревку, чего-то доставал с полатей, вынул из-под курятника топор, попробовал пальцем острие. Он ищет и находит заделье, чтоб только не оставлять горемычного внука один на один с «генералом> — так он в сердцах или в насмешку называет бабушку. Чувствуя незримую, но надежную поддержку деда, я взял со стола краюху и стал есть ее всухомятку. Бабушка одним махом плеснула молоко, со стуком поставила посудину передо мной и подбоченилась:
— Брюхо болит, на краюху глядит! Эшь ведь какой смирененькай! Эшь ведь какой тихонькай! И молочка не попросит!..
Дед мне подморгнул — терпи. Я и без него знал: Боже упаси сейчас перечить бабушке, сделать чего не по ее усмотрению. Она должна разрядиться и должна высказать все, что у нее на сердце накопилось, душу отвести и успокоить должна. И срамила же меня бабушка! И обличала же! Только теперь, поняв до конца, в какую бездонную пропасть ввергло меня плутовство и на какую «кривую дорожку> оно меня еще уведет, коли я так рано взялся шаромыжничать, коли за лихим людом потянулся на разбой, я уж заревел, не просто раскаиваясь, а испугавшись, что пропал, что ни прощенья, ни возврата нету…
Даже дед не выдержал бабушкиных речей и моего полного раскаянья. Ушел. Ушел, скрылся, задымив цигаркой, дескать, мне тут ни помочь, ни совладать, Бог пособляй тебе, внучек…
Бабушка устала, выдохлась, а может, и почуяла, что уж того она, лишковато все ж меня громила.
Было покойно в избе, однако все еще тяжело. Не зная, что делать, как дальше жить, я разглаживал заплатку на штанах, вытягивал из нее нитки. А когда поднял голову, увидел перед собой…
Я зажмурился и снова открыл глаза. Еще раз зажмурился, еще раз открыл. По скобленому кухонному столу, будто по огромной земле, с пашнями, лугами и дорогами, на розовых копытцах, скакал белый конь с розовой гривой.
— Бери, бери, че смотришь? Глядишь, зато еще когда омманешь баушку…
Сколько лет с тех пор прошло! Сколько событий минуло. Нет в живых дедушки, нет и бабушки, да и моя жизнь клонится к закату, а я все не могу забыть бабушкиного пряника — того дивного коня с розовой гривой.
3. Астафьев В. "Монах в новых штанах"

Мне велено перебирать картошки. Бабушка определила норму, или упряг, как назвала она задание. Упряг этот отмечен двумя брюквами, лежащими по ту и по другую сторону продолговатого сусека, и до брюкв тех все равно что до другого берега Енисея. Когда я доберусь до брюкв, одному Богу известно. Может, меня и в живых к той поре не будет!
В подвале земляная, могильная тишина, по стенам плесень, на потолке сахаристый куржак. Так и хочется взять его на язык. Время от времени он ни с того ни с сего осыпается сверху, попадает за воротник, липнет к телу и тает. Тоже хорошего мало. В самой яме, где сусеки с овощами и кадки с капустой, огурцами и рыжиками, куржак висит на нитках паутины, и когда я гляжу вверх, мне кажется, что нахожусь я в сказочном царстве, в тридевятом государстве, а когда я гляжу вниз, сердце мое кровью обливается и берет меня большая-большая тоска.
Кругом здесь картошки. И перебирать их надо, картошки-то. Гнилую полагается кидать в плетеный короб, крупную — в мешки, помельче — швырять в угол этого огромного, словно двор, сусека, в котором я сижу, может, целый месяц и помру скоро, и тогда узнают все, как здесь оставлять ребенка одного, да еще сироту к тому же.
Конечно, я уже не ребенок и работаю не зазря. Картошки, что покрупнее, отбираются для продажи в город. Бабушка посулилась на вырученные деньги купить мануфактуры и сшить мне новые штаны с карманом.
Я вижу себя явственно в этих штанах, нарядного, красивого. Рука моя в кармане, и я хожу по селу и не вынимаю руку, если что надо, положить — биту-бабку либо деньгу, — я кладу только в карман, из кармана уж никакая ценность не выпадет и не утеряется.
Штанов с карманом, да еще новых, у меня никогда не бывало. Мне все перешивают старое. Мешок покрасят и перешьют, бабью юбку, вышедшую из носки, или еще чего-нибудь. Один раз полушалок употребили даже. Покрасили его и сшили, он полинял потом и сделалось видно клетки. Засмеяли меня всего левонтьевские ребята. Им что, дай позубоскалить!
Интересно знать мне, какие они будут, штаны, синие или черные? И карман у них будет какой — наружный или внутренний? Наружный, конечно. Станет бабушка нозиться с внутренним! Ей некогда все. Родню надо обойти. Указать всем. Генерал!
Вот умчалась куда-то опять, а я тут сиди, трудисьСначала мне страшно было в этом глубоком и немом подвале. Все казалось, будто в сумрачных прелых углах кто-то спрятался, и я боялся пошевелиться и кашлянуть боялся. Потом осмелел, взял маленькую лампешку без стекла, оставленную бабушкой, и посветил в углах. Ничего там не было, кроме зеленовато-белой плесени, лоскутьями залепившей бревна, и земли, нарытой мышами, да брюкв, которые издали мне казались отрубленными человеческими головами. Я трахнул одной брюквой по отпотелому деревянному срубу с прожилками куржака в пазах, и сруб утробно откликнулся: «У-у-а-ах!»
— Ага! — сказал я. — То-то, брат! Не больно у меня!..
Еще я набрал с собой мелких свеколок, морковок и время от времени бросал ими в угол, в стенки и отпугивал всех, кто мог там быть из нечистой силы, из домовых и прочей шантрапы.
Слово «шантрапа» в нашем селе завозное, и чего оно обозначает — я не знаю. Но оно мне нравится. «Шантрапа! Шантрапа!» Все нехорошие слова, по убеждению бабушки, в наше село затащены Верехтиными, и не будь их у нас, даже и ругаться не умели бы.
Я уже съел три морковки, потер их о голяшку катанка и съел. Потом запустил под деревянные кружки руки, выскреб холодной, упругой капусты горсть и тоже съел. Потом огурец выловил и тоже съел. И грибов еще поел из низкой, как ушат, кадушки. Сейчас у меня в брюхе урчит и ворочается. Это моркови, огурец, капуста и грибы ссорятся меж собой. Тесно им в одном брюхе, ем, горя не вем, хоть бы живот расслабило. Дыра во рту насквозь просверлена, негде и нечему болеть. Может, ноги судорогой сведет? Я выпрямил ногу, хрустит в ней, пощелкивает, но ничего не больно. Ведь когда не надо, так болят. Прикинуться, что ли? А штаны? Кто и за что купит мне штаны? Штаны с карманом, новые и уже без лямок, и даже с ремешком!
Руки мои начинают быстро-быстро разбрасывать картошку: крупную — в зевасто открытый мешок, мелкую — в угол, гнилую — в короб. Трах-бах! Тарабах!
— Крути, верти, навертывай! — подбадриваю я сам себя, и поскольку лишь поп да петух не жравши поют, а я налопался, потянуло меня на песню.
Судили девицу одну,
Она дитя была года-ами-и-и-и…
Орал я с подтрясом. Песня эта новая, нездешняя.
Ее, по всем видам, тоже Верехтины завезли в село. Я запомнил из нее только эти слова, и они мне очень по душе пришлись. Ну, а после того, как у нас появилась новая невестка — Нюра, удалая песельница, я навострил ухо, по-бабушкиному — наустаурил, и запомнил всю городскую песню. Дальше там в песне сказывается, за что судили девицу. Полюбила она человека. Мушшину, надеясь, что человек он путный, но он оказался изменшык. Ну, терпела, терпела девица изменшыство, взяла с окошка нож вострый «и белу грудь ему промзила».
Сколько можно терпеть, в самом-то деле?!
Бабушка, слушая меня, поднимала фартук к глазам:
— Страсти-то, страсти-то какие! Куды это мы, Витька, идем?
Я толковал бабушке, что песня есть песня и никуды мы не идем.
— Не-эт, парень, ко краю идем, вот что. Раз уж баба с ножиком на мужика, это уж все, это уж, парень, полный переворот, последний, стало быть, предел наступил. Остается только молиться о спасении. Вот у меня сам-то черта самого самовитее, и поругаемся когда, но чтоб с топором, с ножиком на мужа?.. Да Боже сохрани нас и помилуй. Не-эт, товаришшы дорогие, крушенье укладу, нарушение Богом указанного порядку.
У нас на селе судят не только девицу. А уж девицам-то достается будь здоров! Летом бабушка с другими старухами выйдет на завалинку, и вот они судят, вот они судят: и дядю Левонтия, и тетку Васеню, и Авдотьину девицу Агашку, которая принесла дорогой маме подарочек в подоле!
Только в толк я не возьму: отчего трясут старухи головами, плюются и сморкаются? Подарочек — что ли, плохо? Подарочек — это хорошо! Вот мне бабушка подарочек привезет. Штаны!
— Крути, верти, навертывай!
Судили девицу одну,
Она дитя была года-а-ами-и-и-и…
Картошка так и разлетается в разные стороны, так и подпрыгивает, все идет как надо, по бабушкиной опять же присказке: «Кто ест скоро, тот и работает споро!» Ух, споро! Одна гнилая в добрую картошку попала. Убрать ее! Нельзя надувать покупателя. С земляникой вон надул — чего хорошего получилось? Срам и стыд! Попадись вот гнилая картошка — он, покупатель, сбрындит. Не возьмет картошку, значит, ни денег, ни товару, и штанов, стало быть, не получишь. А без штанов кто я? Без штанов я шантрапа. Без штанов пойди, так все равно как левонтьевских ребят всяк норовит шлепнуть по голому заду — такое уж у него назначение, раз голо — не удержишься, шлепнешь.
Голос мой гремит под сводами подвала и никуда не улетает. Тесно ему в подвале. Пламя лампы качается, вот-вот погаснет, куржак от сотрясенья так и сыплется.
Но ничего я не боюсь, никакой шантрапы!
Шан-тpа-па-a, шан-тра-апа-а-а-а…
Распахнув створку, я смотрю на ступеньки подвала. Их двадцать восемь штук. Я уж сосчитал давно. Бабушка выучила меня считать до ста, и считал я все, что поддавалось счету. Верхняя дверца в подвал чуть приоткрыта, чтоб мне не так боязно здесь было. Хороший все же человек — бабушка! Генерал, конечно, однако раз она такой уродилась — уж не переделаешь.
Над дверцей, к которой ведет белый от куржака тоннель, завешанный нитками бахромы, я замечаю сосульку. Махонькую сосульку, с мышиный хвостик, но на сердце у меня сразу что-то стронулось, шевельнулось мягким котенком.
Весна скоро. Будет тепло. Первый май будет! Все станут праздновать, гулять, песни петь. А мне исполнится восемь лет, меня станут гладить по голове, жалеть, угощать сладким. И штаны мне бабушка к Первомаю сошьет. Разобьется в лепешку, но сошьет — такой она человек!
Шантрапа-а-а, шантрапа-а-а!..
Сошьют штаны с карманом в Первый май!..
Попробуй тогда меня поймай!..
Батюшки, брюквы-то — вон они! Упряг-то я одолелРаза два я, правда, передвигал брюквы поближе к себе и сократил таким образом расстояние, отмеренное бабушкой. Но где они прежде лежали, эти брюквы, я, конечно, не помню, и вспоминать не хочу. Да если на то пошло, я могу вовсе брюквы унести, выкинуть их вон и перебрать всю картошку, и свеклу, и морковку — все мне нипочем!
Судили девицу одну-у-у…
— Ну, как ты тут, чудечко на блюдечке?
Я аж вздрогнул и выронил картошки из рук. Бабушка пришла. Явилась, старая!
— Ничего-о-о! Будь здоров, работник. Могу всю овощь перешерстить — картошку, морковку, свеклу, — все могу!
— Ты уж, батюшко, тишей на поворотах! Эк тебя заносит!
— Пускай заносит!
— Да ты никак запьянел от гнилого-то духу?!
— Запьянел! — подтверждаю я. — В дрезину… Судили девицу одну-у…
— Матушки мои! А устряпался-то весь, как поросенок! — Бабушка выдавила в передник мой нос, потерла щеки. — Напасись вот на тебя мыла! — И подтолкнула в спину: — Иди обедать. Ешь с дедом щи капустные, будет шея бела, кудревата голова!..
— Еще только обед?
— Тебе небось показалось, неделю тут робил?
— Ага!
Я поскакал через ступеньку вверх. Пощелкивали во мне суставы, ноги хрустели, а навстречу мне плыл свежий студеный воздух, такой сладкий после гнилого, застойного подвального духа.
— Вот ведь мошенник! — слышится внизу, в подвале. — Вот ведь плут! И в кого только пошел? У нас в родове вроде таких нету… — Бабушка обнаружила передвинутые брюквы.
Я наддал ходу и вынырнул из подвала на свежий воздух, на чистый, светлый день и как-то разом отчетливо заметил, что на дворе все наполнено предчувствием весны. Оно и в небе, которое сделалось просторней, выше, голубей в разводах, оно и на отпотевших досках крыши с того края, где солнце, оно и в чириканье воробьев, схватившихся врукопашную середь двора, и в той еще негустой дымке, что возникла над дальними перевалами и начала спускаться по склонам к селу, окутывая синей дремой леса, распадки, устья речек. Скоро, совсем скоро вспухнут горные речки зеленовато-желтой наледью, которая звонкими утренниками настывает рыхлой и сладкой на вид коркой, будто сахарная та корка, и куличи скоро печь начнут, краснотал по речкам побагровеет, заблестит, вербы шишечкой покроются, ребятишки будут ломать вербы к родительскому дню, иные упадут в речку, наплюхаются, потом лед разъест на речках, останется он лишь на Енисее, меж широких заберег, и, кинутый всеми зимник, печально роняя вытаивающие вехи, будет покорно ждать, когда его сломает на куски и унесет. Но еще до ледохода появятся подснежники на увалах, прыснет травка по теплым косогорам и наступит Первый май. У нас часто бывают вместе и ледоход, и Первый май, а в Первый май…
Нет, уж лучше не травить душу и не думать о том, что будет в Первый май!
Материю, или мануфактуру, так называется швейный товар, бабушка купила, еще когда по санному пути ездила в город с торговлишкой. Материя была синего цвета, рубчиком, хорошо шуршала и потрескивала, если по ней провести пальцем. Она называлась треко. Сколько я потом на свете ни жил, сколько штанов ни износил, материи с таким названием мне не встречалось. Очевидно, было то трико. Но это лишь моя догадка, не более. Много в детстве было такого, что потом не встречалось больше и не повторялось, к сожалению.
Кусочек мануфактуры лежал в глубине сундука, на самом дне, лежал под как бы нечаянно наброшенным на него малоценным барахлом — под клубками из тряпочек, которые для тканья половиков заготавливаются, под вышедшими из носки платьями, лоскутками, чулками, коробочками со «шматьем». Доберется лихой человек до сундука, глянет в него, плюнет с досады и уйдет. Чего и ломился? Надеялся на поживу? Никаких ценностей в доме и в сундуке нету!
Вот какая хитрая бабушка! И кабы одна она такая хитрая. Все бабы себе на уме. Появится в доме какой подозрительный постоялец, либо «сам», то есть хозяин, допьется до того, что нательный крест пропить готов, тогда в тайном узелке, тайными лазами и ходами переправляется к соседям, ко всяким надежным людям — кусочек с войны хранившегося сукна; швейная машинка; серебро — две-три ложки и вилки, по наследству от кого-то доставшиеся, либо выменянные у ссыльных на хлеб и молоко; «золото» — нательный крестик с католической ниткой в три цвета, должно быть, с этапов, от поляков еще, какими-то путями в наше село угодивший; заколка дворянского, может, и «питинбурского» происхождения; крышка от пудреницы иль табакерки; тусклая медная пуговица, которую кто-то подсуропил вместо золотой, за золотую и сходящая; сапоги хромовые и ботинки, приобретенные на «рыбе», значит, ездил когда-то хозяин на северные путины, на дикую «деньгу», накупил добра, оно и хранится до праздников и до свадеб детей, до «выхода на люди», да вот наступила лихая минута — спасайся кто может, и спасай что можешь.
Сам добытчик с побелелыми от самогона глазами и одичалым лицом во мхе, бегает по двору с топором, норовя изрубить все в щепки, за дробовик хватается — стало быть, не запамятуй, баба, и патронташ унести, захоронить в надежное место охотничий припас…
В «надежные руки», частенько в бабушкины, волоклось «добро», и не только из дома дяди Левонтия находили здесь приют женщины. Топтались в отдалении, шептались по углам: «Дак смотри, кума, на горе нашем не наживись…» — «Да што ты, што ты? У меня перебывало… Место не пролежит…» — «Куда деваться, не к Болтухиным же, не к Вершкову нести?»
Весь вечер, когда и ночь, взад-вперед, взад-вперед шастают с чужого подворья парнишки. Пригорюнившаяся мать с подбитым глазом, рассеченной губой, прикрыв малых детей шалью, жмет их к своему телу в чужом доме, на чужих людях, вестей положительных ждет.
Парнишка явится из разведки — голова вниз: «Не уснул ишшо. Скамейки крушит. Осердился, што патронов нет, бердану об печку ломат…» — «И когда он подавится? Когда шары свои бесстыжие зальет? Зима на носу, дров ни полена, сено не вывезено, берданку порешит, в тайгу с чем белковать пойдет? Берданка что по зверю, что по птице. Семьдесят семь рублев за нее, и вот… Сколько мне мама говорила, не лезь в юшковскую, меченную каторгой, родову, не лезь, намаешься. Дак рази мы родительское слово слушаем? Брови у его соколиные, чуб огневой, голос — за рекой слыхать. Вот и запели, завеселились… — И вдруг с ходу, круто на «разведчика»: — В папашу, весь в папашу своего золотого растешь! Чуть что — «тятьку не тронь!». Вот и не тронь! Вот по чужим углам и шляемся, добрым людям спать не даем. О-хо-хо-хо-нюш-ки, да детоньки вы мои несчастные, да при отце-то вы без отца растете. Тонул он пять раз — не утонул, горел он в лесном пожаре — не сгорел, блудил в тайге — не заблудился… Ни черти, ни лесной, ни вода, ни земля не принимают его. Покинул бы, дак лучше бы нам без него, злодея, было… Сиротами бы росли да зато на спокое, голодно, да не холодно…»
Из девчонок кто-нибудь матери подвоет, глядишь, и все ребятишки в голос.
«Да будет вам, будет. Уймется же когда-то, не железный жа, не каменнай….» — успокаивает горемычных постояльцев бабушка.
«Разведчик» опять шапку в охапку и в поиск. Раз по пяти, по десяти за ночь-то сбегает, пока явится с радостной вестью: «Все! Свалился посередь избы…»
И обычная, привычная молитва: «Слава Тебе, Господи! Слава Те… Прости нас, бабушка Катерина, надоедам…» — «Да чЕ там? Каки шшоты? Ступайте с Богом. А я ему, супостату, завтра баню с предбанником устрою. Напарю, ох, напарю, до новых веников поминать будет!..»
И напарит! Будет стоять перед нею дрожащий, заросший волосом мужичонка и ловить штаны, спадающие с запашного, к спине за время пьянки приросшего брюха.
— Дак чего делать-то, бабушка Катерина? Она домой не пущает, сдохни, говорит, пропади, пьяница! Ты поговори с ей…
— Об чем?
— Ну, об этом. Прошшение, мол, просит, больше, значит, не повторится.
— Чего не повторится-то? Ты говори, говори. Ишь, и слов у него нету. Вчера вон какой речистый да храбрый был! На бабу свою, жану богоданную, с топором да и ружьишком. Воин! Мятежник!..
— Ну, дурак, дак чЕ? Пьяный дурак.
— И спросу с пьяного нету?
— Да какой спрос?
— А об стенку головой-то чего не бился? Пошто из ружьишка не в себя, в бабу целил? Пошто? Говори!
— 0-о-ой, бабушка Катерина! Да штоб я таку безобразию допустил ишшо раз! Да исказни ты меня, исказни гада такова!..
Бабушка «ходит в сундук» — торжество души и праздник. Вон зачем-то открыла, шепчется сама с собой, оглянувшись на стороны, дверь поплотнее прикрыв, выкладывает добро наверх, мануфактуру мою, на штаны предназначенную, совсем отдельно от всякого добра отложила, кусочек старого, такого старого ситчика, что бабушка на свет его смотрит, зубом пробует, ну и по мелочи кое-чего, шкатулка, баночки из-под чая чем-то звенящие, праздничные вилки и ложки, в тряпицы завязанные, церковные книжки и кое-что из церковного припрятанное — бабушка верит, что церковь не насовсем закрыта и в ней служить еще будут.
С припасом бабушкина семья живет. Все, как у добрых людей. И на черный день кой-чего прибережено, можно спокойно смотреть в будущее, и помрет, так есть во что обрядить и чем помянуть.
Во дворе звякнула щеколда. Бабушка насторожилась. По шагам угадала — чужой человек, и раз-раз все добро рассовала, барахлишком и разной непотребностью прикрыла его, подумала повернугь ключ, да не стала. И на себя бабушка напустила вид убогий, почти скорбящий — припадая на обе ноги, охая, побрела навстречу гостю иль какому другому, ветром занесенному человеку. И ничего не оставалось тому человеку, как думать: живут здесь разбедным-то бедные, больные и убогие люди, коим и остается одно только спасение — по миру идти.
Всякий раз, когда бабушка открывала сундук и раздавался музыкальный звон, я был тут как тут. Я стоял у ободверины на пороге горницы и глядел в сундук. Бабушка отыскивала нужную ей вещь в огромном, точно баржа, сундуке и совершенно меня не замечала. Я шевелился, барабанил пальцами по косяку — она не замечала. Я кашлял, сначала один раз — она не замечала. Я кашлял много раз, будто вся грудь моя насквозь простудилась, — она все равно не замечала. Тогда я подвигался ближе к сундуку и принимался вертеть огромный железный ключ. Бабушка молча шлепала по моей руке — и все равно меня не замечала… Тогда я начинал поглаживать пальцами синюю мануфактуру — треко. Тут бабушка не выдерживала и, глядя на важных, красивых генералов с бородами и усами, которыми изнутри была оклеена крышка сундука, спрашивала у них:
— Што мне с этим дитем делать? — Генералы не отвечали. Я гладил мануфактуру. Бабушка откидывала мою руку под тем предлогом, что она может оказаться немытой и запачкает треко. — Оно же видит, это дите, — кручусь я как белка в колесе! Оно же знат — сошью я к именинам штаны, будь они кляты! Так нет оно, пятнай его, так и лезет, так и лезет!.. — Бабушка хватала меня за ухо и отводила от сундука. Я утыкался лбом в стенку, и такой, должно быть, у меня был несчастный вид, что через какое-то время раздавался звон замка потоньше, помузыкальней, и все во мне замирало от блаженных предчувствий. Mа-аxoньким ключиком бабушка открывала китайскую шкатулку, сделанную из жести, вроде домика без окон. На домике нарисованы всякие нездешние деревья, птицы и румяные китаянки в новых голубых штанах, только не из трека, а из другой какой-то материи, которая мне тоже нравилась, но гораздо меньше, чем моя мануфактура.
Я ждал. И не зря. Дело в том, что в китайской шкатулке хранятся наиценнейшие бабушкины ценности, в том числе и леденцы, которые в магазине назывались монпансье, а у нас попроще — лампасье или лампасейки. Нет ничего в мире слаще и красивее лампасеек! Их у нас на куличи прилепляли, и на сладкие пироги, и просто так сосали эти сладчайшие лампасейки, у кого они, конечно, велись.
У бабушки все есть! И все надежно укрыто. Шиша два найдешь! Снова раздавалась тонкая нежная музыка. Шкатулка закрыта. Может, бабушка раздумала? Я начинал громче шмыгать носом и думал, не подпустить ли голосу. Но тут раздавалось:
— На уж, oкаянная твоя душа! — И в руку мне, давно уже ожидательно опущенную, бабушка совала шершавенькие лампасейки. Рот мой переполнен томительной слюной, но я проглатывал ее и отталкивал бабушкину руку.
— He-e-е…
— А чего же тебе? Ремня?
— Штаны-ы-ы…
Бабушка сокрушенно хлопала себя по бедрам и обращалась уже не к генералам, а к моей спине:
— Эт-то што жа он, кровопивец, слов не понимат? Я ему русским языком толкую — сошью! А он нате-ка! Уросит! А? Возьмешь конфетки или запру?
— Сама ешь!
— Сама? — Бабушка на время теряет дар речи, не находит слов. — Сама? Я т-те дам, сама! Я т-те покажу — сама!
Поворотный момент. Сейчас надо давать голос, иначе попадет, и я вел снизу вверх:
— Э-э-э-э…
— Поори у меня, поори! — взрывалась бабушка, но я перекры- вал ее своим рЕвом, и она постепенно сдавалась, принималась меня умасливать. — Сошью, скоро сошьюУж, батюшко, не плачь уж. На вот конфетки-то, помусли. Сла-а-аденькие лампасеечки. Скоро уж, скоро в новых штанах станешь ходить, нарядный, да красивый, да пригожий…
Поговаривая елейно, по-церковному, бабушка окончательно сламывала мое сопротивление, всовывала мне в ладонь лампасейки, штук пять — уж не обсчитается! Вытирала передником мне нос, щеки и выпроваживала из горницы, утешенного и довольного.
Надежды мои не сбылись. Ко дню рождения, к Первому мая штаны сшиты не были. В самую ростепель бабушка слегла. Она всегда всякую мелкую боль вынашивала на ногах и если уж свалилась, то надолго.
Ее переселили в горницу, на чистую, мягкую постель, убрали половики с полу, занавесили окно, засветили лампадку у иконостаса, и в горнице сделалось как в чужом доме — полутемно, прохладно, пахло там елейным маслом, больницей, люди ходили по избе на цыпочках и разговаривали шепотом. В эти дни бабушкиной болезни я обнаружил, как много родни у бабушки и как много людей, и не родных, тоже приходят пожалеть ее и посочувствовать ей. И только теперь, хотя и смутно, я почувствовал, что бабушка моя, казавшаяся мне всегда обыкновенной бабушкой, — очень уважаемый на селе человек, а я вот не слушался ее, ссорился с нею, и запоздалое чувство раскаяния разбирало меня.
Бабушка громко, хрипло дышала, полусидя в подушках, и все спрашивала:
— Покор… покормили ли ребенка-то?.. Там простокиша… калачи… в кладовке все… в ларе.
Старухи, дочери, племянницы и разный другой народ, хозяйничающий в доме, успокаивали ее, накормлен, мол, напоен твой ненаглядный ребенок, беспокоиться ни о чем не надо и, как доказательство, подводили меня самого к кровати, показывали бабушке. Она с трудом отделяла руку от постели, дотрагивалась до моей головы и жалостливо говорила:
— Помрет вот бабушка, чЕ делать-то станешь? С кем жить-то? С кем грешить-то? О Господи, Господи! — Она косила глаза на лампадку: — Дай силы ради сиротинки горемышной. Гуска! — звала она тетку Августу. — Корову доить будешь, дак вымя-то теплой водой… Она… балованная у меня… А то ведь вам не скажи…
И снова бабушку успокаивали, требовали, чтобы она поменьше говорила и не волновалась бы, но она все равно все время говорила, беспокоилась, волновалась, потому что иначе жить не умела.
Когда наступил праздник, бабушка взялась переживать из-за моих штанов. Я уж сам ее утешал, разговаривал с ней про болезнь, про штаны старался и не поминать. Бабушка к этой поре маленько оправилась, и разговаривать с нею можно было сколько угодно.
— ЧЕ же за болезнь такая у тебя, бабушка? — как будто в первый раз любопытствовал я, сидя рядом с нею на постели. Худая, костистая, с тряпочками в посекшихся косицах, со старым гасником, свесившимся под белую рубаху, бабушка неторопливо, в расчете на длинный разговор, начинала повествовать о себе:
— Надсаженная я, батюшко, изработанная. Вся надсаженная. С малых лет в работе, в труде все. У тяти и у мамы я семая была да своих десятину подняла… Это легко только сказать. А вырастить?!
Но о жалостном она говорила лишь сначала, как бы для запева, потом рассказывала о разных случаях из своей большой жизни. Выходило по ее рассказам так, что радостей в ее жизни было куда больше, чем невзгод. Она не забывала о них и умела замечать их в простой своей и нелегкой жизни. Дети родились — радость. Болели дети, но она их травками да кореньями спасала, и ни один не помер — тоже радость. Обновка себе или детям — радость. Урожай на хлеб хороший — радость. Рыбалка была добычливой — радость. Руку однажды выставила себе на пашне, сама же и вправила, страда как раз была, хлеб убирали, одной рукой жала и косоручкой не сделалась — это ли не радость?
Я глядел на мою бабушку, дивился тому, что у нее тоже были тятя и мама, глядел на ее большие, рабочие руки в жилках, на морщинистое, с отголоском прежнего румянца лицо, на глаза ее зеленоватые, темнеющие со дна, на эти косицы ее, торчащие, будто у девчонки, в разные стороны, — и такая волна любви к родному и до стоноты близкому человеку накатывала на меня, что я тыкался лицом в ее рыхлую грудь и зарывался носом в теплую, бабушкой пахнущую рубашку. В этом порыве моем была благодарность ей за то, что она живая осталась, что мы оба есть на свете и все-все вокруг нас живое и доброе.
— Видишь вот, и не сшила я тебе штаны к празднику, — гладила меня по голове и каялась бабушка. — Обнадежила и не сшила…
— Сошьешь еще, куда спешить-то?
— Да уж дай только Бог подняться…
И она сдержала свое слово. Только начала ходить, сразу же кроить мне штаны взялась. Была она еще слаба, ходила от кровати до стола, держась за стенку, измеряла меня лентой с цифрами, сидя на табуретке. Ее пошатывало, и она прикладывала руку к голове:
— О Господи прости, что это со мною? Чисто с угару!
Но все-таки мерила хорошо, чертила по материи мелом, прикидывала на меня раскроенный кусочек трека, раза два поддала уж, чтоб я не вертелся лишку, отчего мне сделалось веселей, — ведь это же первый признак возвращения бабушки к прежней жизни, полного ее выздоровления.
Кроила штаны бабушка почти целый день, шить их принялась назавтра. Надо ли говорить, как я плохо спал ночь и поднялся до свету. Кряхтя и ругаясь, бабушка тоже поднялась, стала хлопотать на кухне. Она то и дело останавливалась, словно бы вслушивалась в себя, но с этого дня больше в горнице не ложилась, перешла на свою походную постель, поближе к кухне и к русской печи.
Днем мы с бабушкой вдвоем подняли с полу швейную машинку и водворили ее на стол. Машинка была старая, со сработанными на корпусе цветками. Проступали от цветков отдельные лишь завитушки, напоминая гремучих огненных змеев. Бабушка называла машинку «Зигнер», уверяла, что ей цены нету, и всякий раз подробно, с удовольствием рассказывала любопытным, что еще ее мать, царство ей небесное, сходно выменяла эту машинку у ссыльных на городской пристани за годовалую нетель, три мешка муки и кринку топленого масла. Кринку ту, совсем почти целую, ссыльные так и не вернули. Ну да какой с них спрос — ссыльные и есть ссыльные — варначье да чернолапотники, а то еще и чернокнижники какие-то перед переворотом валом валили.
Стрекочет машинка «Зигнер». Крутит ручку бабушка. Осторожно крутит, будто с духом собирается, обмысливает дальнейшие действия, вдруг разгонит колесо и отпустит, аж ручки не видно делается — так крутится. Кажется мне, сейчас машинка все штаны мигом сошьет. Но бабушка руку на блескучее колесо приложит, остепенит машинку, укротит ее стрекот, когда машинка остановится, на грудь прикинет материю, внимательно посмотрит — так ли пробирает игла материю, не кривой ли шов получился.
Бабушка и разговаривала со мной про хорошее, про штаны:
— Комиссару без штанов никак нельзя, — перекусывая нитку и глядя в шитье на свет, рассуждала она. — Маленький комкссар да с пуговкой и лямка через плечо. Наган подвесить — и форменный ты комиссар Вершков будешь, а может, и сам Шшэтинкин!..
В тот день я не отходил от бабушки, потому что надо было примерять штаны. С каждым заходом штаны обретали все большие основы и глянулись мне так, что я уж ни говорить, ни смеяться от восторга не мог. На вопросы бабушки: не давит ли тут, не жмет ли вот здесь, мотал головой и задушенно издавал:
— Н-не-е-е!
— Ты только не ври, потом поздно будет поправлять.
— Правда-правда, — подтверждал я поскорее, чтоб только бабушка пороть штаны не принялась, не отложила бы работу.
Особенно сосредоточена и пристальна была бабушка, когда дело дошло до прорехи — все ее смущал какой-то клин. Если его, этот клин, неправильно поставить — штаны до срока сопреют, и «петушок» на улицу выглядывать станет. Я не хотел, чтобы так получилось, и терпеливо переносил примерку за примеркой. Бабушка очень внимательно ощупывала в районе «петушка», и мне было так щекотно, что я с визгом взлягивал. Бабушка поддавала мне по загривку.
Так без обеда мы с нею проработали до самых сумерек — это я упросил бабушку не прерываться из-за такого пустяка, как еда. Когда солнце ушло за реку и коснулось верхних хребтов, бабушка заторопилась — вот-вот коров пригонят, а она все копается, и вмиг закончила работу. Она приладила в виде лопушка карман на штаны, и хотя мне был бы желательней карман внутренний, я возражать не решился. Вот и последние штрихи навела бабушка машинкою, выдернула нитку, свернула штаны, огладила на животе рукою.
— Ну, слава Богу. Пуговицы уж после отпорю от чего-нибудь да пришью.
В это время на улице забренчали ботала, требовательно и сыто заблажили коровы. Бабушка бросила штаны на машинку, сорвалась с места и помчалась, на ходу наказывая, чтоб я не вздумал крутить машинку, ничего бы не трогал, не вредил.
Я был терпелив. Да и сил во мне никаких к той поре не осталось. Уже лампы засветились по всему селу и люди отужинали, а я все сидел возле машинки «Зигнер», с которой свисали мои синие штаны. Сидел без обеда, без ужина и хотел спать.
Как бабушка перетащила меня в постель, обессиленного и сморенного, не помню, но я никогда не забуду того счастливого утра, в которое проснулся с ощущением праздничной радости. На спинке кровати, аккуратно сложенные, висели новые синие штаны, на них стираная беленькая рубашка в полоску, рядом с кроватью распространяли запах горелой березы починенные сапожником Жеребцовым сапоги, намазанные дегтем, с желтыми, совершенно новыми союзками.
Сразу же откуда-то взялась бабушка, начала одевать меня, как маленького. Я безвольно подчинялся ей, и смеялся безудержно, и о чем-то говорил, и чего-то спрашивал, и перебивал сам себя.
— Ну вот, — сказала бабушка, когда я предстал перед нею во всей красе, во всем параде. Голос ее дрогнул, губы повело на сторону, и она уж за платок взялась: — Видела бы мать-то твоя, покойница…
Я хмуро потупился.
Бабушка прекратила причитания, прижала меня к себе и перекрестила.
— Ешь и ступай к дедушке на заимку.
— Один, баба?
— Конечно, один. Ты уж вон у меня какой большой! Мужик!
— Ой, бабонька! — От полноты чувств я обнял ее за шею и пободал головою.
— Ладно уж, ладно, — легонько отстранила меня бабушка. — Ишь, Лиса Патрикеевна, всегда бы такой был ласковый да хороший…
Разряженный в пух и прах, с узелком, в котором были свежие постряпушки для деда, я вышел со двора, когда солнце стояло уже высоко и все село жило своей обыденной, неходкой жизнью. Перво-наперво я завернул к соседям и поверг своим видом левонтьевское семейство в такое смятение, что в содомной избе вдруг наступила небывалая тишина, и он сделался, этот дом, сам на себя непохож. Тетка Васеня всплеснула руками, уронила клюку. Клюка эта попала по голове кому-то из малых. Он запел здоровым басом. Тетка Васеня подхватила пострадавшего на руки, затутышкала, а сама не сводила с меня глаз.
Танька рядом со мной оказалась, все ребята окружили меня, щупали материю, восхищались. Танька залезла в мой карман, обнаружила там чистый платок и сраженно притихла. Только глаза ее выражали все чувства, и по ним я мог угадать, какой я сейчас красивый, как она мною любуется и на какую недосягаемую высоту вознесся я.
Затискали меня, затормошили, и я вынужден был вырваться и следить, чтоб не выпачкали, не смяли бы чего и не съели бы под шумок шаньги — гостинец дедушке. Тут ведь только зевни.
Одним словом, я заторопился прощаться, сославшись на то, что спешу, и спросил, не надо ли чего передать Саньке. Санька левонтьевский на нашей заимке — помогал дедушке в пашенных делах. На лето левонтьевских ребят рассовывали по людям, и они там кормились, росли и работали. Дедушка уже по два лета брал с собою Саньку. Бабушка моя, Катерина Петровна, предсказывала, что каторжанец этот сведет старого с ума, пути из него не будет, произойдет полное крушение в работе, потом удивлялась, как это дед с Санькой ужились и довольны друг другом.
Тетка Васеня сказала, что передавать Саньке нечего, кроме наказа, чтобы слушался дедушку Илью и не утонул бы в Мане, если вздумает купаться.
К огорчению моему, в этот полуденный час народ на улице был редок, деревенский люд еще не окончил весеннюю страду. Мужики все уехали на Maнy — промышлять маралов — панты у них сейчас в ценной поре, а уже надвигался сенокос, и все были заняты делом. Но все же кое-где играли ребятишки, шли в потребиловку женщины и, конечно же, обращали внимание на меня, иной раз довольно пристальное. Вот встречь семенит тетка Авдотья, бабушкина свояченица. Я иду, насвистываю. Мимо иду, не замечаю тетку Авдотью. Она свернула на сторону, и я увидел ее изумление, увидел, как она развела руками, услышал слова, которые лучше всякой музыки.
— Тошно мне! Да это уж не Витька ли Катеринин?
«Конечно, я! Конечно, я!» — хотелось надоумить мне тетку Авдотью, но я сдержал порыв и только замедлил шаги. Тетка Авдотья ударила себя по юбке, в три прыжка настигла меня, принялась ощупывать, оглаживать и говорить всякие хорошие слова. В домах распахивались окна, выглядывали бабы и старухи, все меня хвалили, все говорили про бабушку и про наших хвалебное, вот, мол, без матери парень растет, а водит его бабушка так, что дай Бог иным родителям водить своих детей, и чтоб бабушку я почитал, слушался и, коли вырасту, так не забывал бы ее добра.
Большое наше село, длинное. Утомился я, умаялся, пока прошел его из конца в конец и принял на себя всю дань восхищения мною и моим нарядом и еще тем, что один я, сам иду на заимку к деду. Весь уже в поту был я, когда вышел за околицу.
Сбежал к реке, попил из ладошек студеной енисейской водицы. От радости, бурлившей во мне, бросил камень в воду, потом другой, увлекся было этим занятием, да вовремя вспомнил, куда я иду, зачем и в каком видеДа и путь неблизок — пять верст! Пошагал я, даже сначала побежал, но смотреть же под ноги надо, чтобы не сбить о корни желтые союзки. Перешел на размеренный шаг, несуетливый, крестьянский, каким всегда ходил дедушка.
От займища начинался большой лес. Доцветающие боярки, подсоченные сосенки, березы, доля которым выпала расти но соседству с селом и потому обломанные за зиму на голики, остались позади. Ровный осинник с полным уже, чуть буроватым листом густо взнимался по косогору. Ввысь вилась дорога с вымытым камешником. Серые большие плиты, исцарапанные подковами, были выворочены вешними потоками. Слева от дороги темнел распадок, в нем плотно стоял ельник, в гуще его глухо шумел засыпающий до осени поток. В ельнике пересвистывались рябчики, понапрасну сзывая самок. Те уже сели на яйца и не отзывались кавалерам-петушкам. Только что на дороге завозился, захлопал и с трудом взлетел старый глухарь. Он линять начал, но вот выполз на дорогу — камешков поклевать, теплой пылью выбить из себя вошей и блошек. Баня ему тут! Сидел бы смирно в чаще, на свету сожрет его, старого дурака, рысь, да и лиса не подавится.
У меня сбилось дыхание — громко бухал крыльями глухарь. Но страху большого нет, потому как солнечно кругом, светло, и все в лесу занято своим делом. Да и дорогу эту я хорошо знал — много раз ездил по ней верхом и на телеге с дедушкой, с бабушкой, с Кольчей-младшим и с разными другими людьми.
И все же видел и слышал я будто заново, должно быть, оттого, что первый раз путешествовал один на заимку через горы и тайгу. Дальше в гору лес был реже, могутней, лиственницы возвышались над всей тайгой и вроде бы задевали облака. Вспомнилось, как на этом длинном и медленном подъеме Кольча-младший запевал всегда одну и ту же песню, конь замедлял шаги, осторожно ставил копыта, чтоб не мешать человеку петь. И сам наш конь — Ястреб — на исходе горы, вверху встревал в песню, пускал по горам и перевалам свое «и-го-го-о-о-о», но тут же сконфуженно делал хвостом отмашку, дескать, знаю, что не очень у меня с песнями, однако выдержать не мог, очень уж все тут славно и седоки вы приятные — не хлещете меня, песни поете.
Затянул и я песню Кольчи-младшего про природного пахаря, по распадку мячиком катился, подпрыгивал на каменьях и осыпях мой голос, смешно повторяя: «Ха-халь!» Так, с песнею, я одолел гору. Сделалось светлее. Солнце все прибавлялось и прибавлялось. Лес редел, и камней на дороге попадалось больше, крупнее они были, и потому вся дорога извивалась в объезд булыжин. Трава в лесу сделалась реже, но цветов было больше, и когда я вышел на окраину леса, вся опушка палом горела, захлестнутая жарками.
Наверху, по горам, начались наши деревенские поля. Сначала они были рыжевато-черны, лишь кое-где мышасто серели на них всходы картошек да поблескивал на солнце выпаханный камешник. Но дальше все было залито разноцветной волнистой зеленью густеющих хлебов, и только межи, оставленные людьми, не умеющими ломтить землю, отделяли поля друг от друга, и, как берега рек, не давали им слиться вместе, сделаться морем.
Дорога здесь покрыта травою — гусиной лапкой, совсем неугнетенно цветущей, хотя по ней ездили и ходили. Подорожник набирался сил, чтобы засветить свою серенькую свечку, всякая былка тут зеленела, тянулась, плелась по бороздам от колес, по копытным ямкам, не задыхаясь дорожной пылью. Обочь дороги, в чищенках, куда сваливали камни с полей, колодник и срубленный кустарник, все росло как попало, крупно, буйно. Купыри и морковники силились пойти в дудку, жарки тут, на солнцепеке, уже сорили по ветру отгаром лепестков, сморенно повисли водосборы-колокольчики в предчувствии летней, гибельной для них жары. На смену этим цветкам из чащобника взнялись саранки, и красоднев стоял уже в продолговатых бутончиках, подернутых шерсткой, будто инеем, ждал своего часа, чтобы развесить по окраинам полей желтые граммофоны.
Вот и Королев лог. В нем стояла грязная лужа. Я вознамерился промчаться по ней так, чтобы брызнуло во все стороны, но тут же опамятовался, снял сапоги, засучил штаны и осторожно перебрел ленивую, усмиренную осокой колдобину, истолченную копытами скота, разрисованную лапками птиц, лапками зверушек.
Из лога вылетел я на рысях и пока обувался, все смотрел на поле, открывшееся передо мной, и силился вспомнить, где я еще его видел? Поле, ровно уходящее к горизонту, а середь поля одинокие большие деревья. Прямо в поле, в хлеба, уныривает дорога, быстро иссякая в нем, а над дорогой летит себе, чиликает ласточка…
А-а, вспомнил! Я видел такое же поле, только с желтыми хлебами, на картине в доме школьного учителя, к которому водила меня бабушка записывать на зиму учиться. Я пялился на ту картину, прямо впился в нее глазами, и учитель спросил: «Нравится?». Я потряс головой, и учитель сказал, что нарисовал ее знаменитый русский художник Шишкин, и я подумал, что он, поди-ка, много кедровых шишек съел. А говорить не мог от чудосотворения — пашня, земля, на нашу похожа, вот она, в рамке, но как живая!
Я остановился под самой толстой лиственницей, задрал голову. Мне показалось, что дерево, на котором где густо, где реденько бусила зеленоватая хвоя, плыло по небу, и соколок, приладившийся к вершине дерева, меж черных, словно обгорелых, прошлогодних шишек, дремал, убаюканный этим медленным и покойным плаванием. На дереве было ястребиное гнездо, свитое в развилке меж толстым суком и стволом. Санька как-то полез разорять гнездо, долез до него, собрался уже широкозевых ястребят выкинуть, но тут ястребиха как закричала, как начала хлопать крыльями, долбить злодея клювом, рвать когтями — не удержался Санька, отпустился. Был бы разорителю карачун, да наделся он рубахой на сук и ладно, швы у холщовой рубахи крепкие оказались. Сняли мужики Саньку с дерева, наподдавали, конечно. У Саньки с тех пор красные глаза, говорят, кровь налилась.
Дерево — это целый мир! В стволе его дырки, продолбленные дятлами, в каждой дырке кто-нибудь живет, трекает: то жук какой, то птичка, то ящерка, а выше — и летучие мыши. В травке, в сплетении корней позапрятаны гнезда. Мышиные, сусликовые норки уходят под дерево. Муравейник привален к стволу. Есть тут шипица колючая, заморенная елочка, круглая зеленая полянка возле лиственницы есть. Видно по обнаженным, соскобленным корням, как полянку хотели свести, запластать, но корни дерева сопротивлялись плугу, не отдали полянку на растерзание. Сама лиственница внутри полая. Кто-то давным-давно развел под небо огонь, и ствол выгорел. Не будь дерево такое большое, оно давно б уже умерло, а это еще жило, трудно, с маетою, но жило, добывая опаханными корнями пропитание из земли и при этом еще давало приют муравьям, мышкам, птицам, жукам, метлякам и всякой другой живности.
Я залез в угольное нутро лиственницы, сел на твердый, как камень, гриб-губу, выперший из прелого ствола. В дереве трубно гудит, поскрипывает. Чудится — жалуется оно мне деревянным, нескончаемо длинным плачем, идущим по корням из земли. Я полез из черного дупла и притронулся к стволу дерева, покрытого кремнистой корой, наплывами серы, шрамами и надрубами, зажившими и незаживающими, теми, которые залечить у поврежденного дерева нет уже сил и соков.
«Ой, сажа! Ну и растяпа!» Но гарь выветрилась, и дупло не марается, чуть только на локте одном да на штанине припачкано черным. Я поплевал на ладошку, стер пятно со штанов и медленно побрел к дороге.
Долго еще звучал во мне деревянный стон, слышный только в дупле лиственницы. Теперь я знаю, дерево тоже умеет стонать и плакать нутряным, безутешным голосом.
От горелой лиственницы до спуска к устью Маны совсем недалеко. Я наддал шагу, и вот уже дорога пошла под уклон между двумя горами. Но я свернул с дороги и осторожно начал пробираться к обрывистому срезу горы, спускавшейся каменистым углом в Енисей и ребристым склоном к Мане. С этого отвесного склона видны наши пашни, заимка наша. Я давно собирался посмотреть на все это с высоты, но не получалось, потому что ездил с другими людьми, и они то спешили на работу, то домой с работы. На гриве Манской горы сосняк был низкорослый, с закрученными ветром лапами. Будто руки старых людей, были эти лапы в шишках и хрупких суставах. Боярка здесь росла люто острая. И все кустарники были сухи, ершисты и зацеписты. Но здесь же случались ровные березнички, чистые осинники, тонкие, наперегонки идущие в рост после пожара, о котором напоминали еще черные валежины и выворотни. Пенья и валежины обметало всходами сладкой, в налив идущей клубники; костяника белела и наливалась соком, под соснами хрустел мелколистый, крепкий брусничник, а по склону пластал ромашечник — любимое его тут место — сиреневый, желтый, почти фиолетовый, местами — белый, целым веником, будто выплеснутая в осыпи кринка сметаны. Бабушка не обходит этот разлив ромашки, всегда нарывает «мигунка» на лекарство. Я пластал цветы под самый корень, набрал их столько, что едва в беремя поместились, и вот иду, а запах вокруг меня, словно в аптеке или в кладовке, где сушит бабушка травы, густо пылит и пахнет ромашка. особенно желтая, того и гляди, расчихаешься, как от лютого дедова самосада.
Над обрывом, где уже не было деревьев, только шипица, таволга, акация, колючки и выводки горной репы пятнали каменья. Я остановился и стоял до тех пор, пока не устали ноги, потом сел, забыв о том, что здесь водятся змеи — змей я боялся больше всего на свете. Какое-то время я и не дышал вовсе, только смотрел и смотрел, сердце мое билось в груди гулко и часто.
Впервые видел я сверху слияние двух больших рек — Маны и Енисея. Они долго-долго спешили навстречу друг дружке, а встретившись, текут по отдельности, делают вид, что и не интересуются одна другой. Мана побыстрее Енисея и посветлее, хотя и Енисей светел тоже. Белесым швом, словно волнорезом, все шире растекающимся, определена граница двух вод. Енисей поплескивает, подталкивает Maну в бок, заигрывает и незаметно прижимает ее в угол Манского быка, так наши деревенские парни прижимают девок к забору, когда балуются. Мана вскипает, на скалу выплескивается, ревет, но поздно — бык отвесен и высок, Енисей напорист — у него не забалуешься.
Еще одна река покорена. Сыто заурчав под быком, Енисей бежит к морю-океану, бунтующий, неукротимый, все на пути сметающий. И что ему Мана! Он еще и не такие реки подхватит и умчит с собою в студеные, полуночные края, куда и меня занесет потом судьбина, и доведется потом мне посмотреть родную реку совсем иную, разливисто-пойменную, утомленную долгой дорогою. А пока я смотрю и смотрю па реки, на горы, на леса. Стрелка на стыке Маны с Енисеем скалиста, обрывиста. Коренная вода еще не спала. Бечевка осыпистого бережка еще затоплена. Скалы на той стороне в воде стоят, где начинается скала, где ее отражение — отсюда не разберешь. Под скалами полосы. Теребит, скручивает воду рыльями камней-опрядышей.
Но зато сколько простора наверху, над Маной-рекойНа стрелке каменное темечко, дальше вразброс кучатся останцы, еще дальше — порядок начинается: упалисто, волнами уходят горы ввысь от бестолочи ущелий, шумных речек, ключей. Там, вверху — остановившиеся волны тайги, чуть просветленные на гривах, затаенно-густые во впадинах. На самом горбистом всплеске тайги заблудившимся парусом сверкает белый утес. Загадочно, недосягаемо синеют далекие перевалы, о которых и думать-то жутко. Меж них петляет, ревет и гремит на порогах Мана-река — кормилица-поилица: пашни наши здесь, промысел надежный тоже на этой реке. Много на Мане зверя, дичи, рыбы. Много порогов, россох, гор, речек с завлекательными названиями: Каракуш, Нагалка, Бежать, Миля, Кандынка, Тыхты. Негнет. И как разумно поступила дикая река: перед устьем взяла да круто свалилась влево, к скалистой стрелке, и оставила пологий угол наносной земли. Здесь пашни, избушки, заимки на берегу Маны, поля здесь. Они упираются в горы самыми дальними околками, межами и чищенками. Внизу подо мной Манская речка, ровно бы очертила границу дозволенного и гору не пускает через себя. Дальше от заимок, туда, к изгибу Маны, за которым белеет утес, уже холмисто, там лес, тайга, на приволье растет много больших берез. Люди теснят этот лес, вырубают леторосные всходы, оставляют только те деревья, с которыми не могуг совладать. Каждый год то на один, то на другой бугор выкидывают селяне наши зеленый плат крестьянской пашни, потеснили тайгу до Соломенного плеса.
Упорные люди работали на этой земле!
Я отыскал взглядом нашу заимку. Найти ее нетрудно. Она — дальняя. Каждая заимка — повторение того двора, того дома, который содержит хозяин в селе. Так же срублен дом, так же загорожен двор, тот же навес, те же сени, даже наличники на доме такие же, но все: и дом, и двор, и окна, и печь внутри — меньших размеров. И еще нет во дворе зимних стаек, амбаров и бань, а есть один широкий летний загон, крытый хворостом, по хворосту соломой.
За нашей заимкой змеится тропинка по каменному бычку, всегда мокрому от плесени. Из бычка в щель выбуривает ключ, над ключом растут кривая лиственница без вершины и две ольхи. Корни дерев прищемило бычком, и они растут кривые, с листом по одному боку. Над нашей заимкой пушится дымок. Дедушка с Санькой варят чего-то. Мне разом захотелось есть. Но я никак не могу уйти, никак не могу оторвать взгляда от двух рек, от гор этих, мерцающих вдали, не могу пока еще постигнуть своим детским умом необъятность мира.
Я встряхнулся, передернул плечами, заорал громче, чтобы отпугнуть навалившуюся на меня вяжущую, непонятную боязнь, почти кубарем скатился с горы, за мною с обвальным лязгом потек серый плитняк, крошка. Обгоняя поток, подскакивали круглые булыжины, которые впереди, которые вместе со много ухнули в Манскую речку.
Поплыло беремя духовитых ромашек, узелок с постряпушками поплыл, на меня напала резвость — я бегал по холодной речке с хохотом, ловил узелок, цветы и внезапно остановился.
— Сапоги-то!
Я еще стоял и смотрел, как выше моих сапог бежит, завихряется речка, как мелькают в воде живыми рыбками желто-красные союзки.
«Растяпа! Недоумок! Сапоги спортил! Штаны замочил! Новые штаны!»
Я побрел на берег, разулся, вылил воду из сапог, разгладил руками штаны и стал ждать, когда наряд мой высохнет и снова обретет праздничный лоск.
Долог, утомителен был путь из села. Мгновенно и совершенно незаметно уснул я под шум Манской речки. Спал, должно быть, совсем немного, потому что, когда проснулся, в сапогах было еще сыро, зато союзки сделались желтее и красивше — смыло с них деготь. Штаны высушило солнцем. Они сморщились, потеряли форс. Я поплевал на ладони, разгладил штаны, надел, еще разгладил, обулся, побежал по дороге легко и быстро, так что пыль взрывалась следом за мною.
Деда в избе не было, Саньки тоже не было. Что-то постукивало за избой во дворе. Я положил узелок и цветы на стол, отправился во двор. Дед стоял на коленях под дощатым козырьком и рубил в корытце папухи табаку. Старенькая, латанная на локтях рубаха была выпущена у него из штанов, вздрагивала на спине. Шея дедушки засмолена солнцем. Сероватые от старости волосы спускались висюльками на шею в коричневых трещинах. На крыльцах рубаху оттопыривали большие, как у коня, лопатки.
Я загладил ладошкой волосы набок, подтянул шелковый с кисточками пояс на животе и враз осипшим голосом позвал;
— Деда!
Дед перестал тюкать, отложил топор, обернулся, какое-то время смотрел на меня, стоя на коленях, затем поднялся, вытер руки о подол рубахи, прижал меня к себе. Липкою от листового табаку рукою он провел по моей голове. Был он высок, не сутулился еще, и лицо мое доставало только до живота его, до рубахи, так пропитанной табаком, что дышать было трудно, свербило в носу и хотелось чихать. Но я не шевелился, не чихал, притих, будто котенок под ладонью.
Приехал Санька верхом на коне, загорелый, подстриженный дедушкой, в заштопанных штанах и рубахе, как я догадался по размашистой стежке — тоже починенных дедушкой. Санька есть Санька! Только загнал коня, еще и здравствуй не сказал, но уж огорошил меня:
— Монах в новых штанах! — Он и еще добавить чего-то хотел, да придержал язык, дедушки постеснялся. Но он скажет ехидное, потом скажет, когда деда не будет. Завидно потому что Саньке — сам-то сроду не нашивал новых штанов, а сапоги да еще с новыми союзками — и во сне ему не снились.
Оказалось, я поспел к самому обеду. Ели драчЕну — мятую картошку, запеченную с молоком и маслом, ели харюзов и жареных сорожек — Санька вечером надергал, после пили чай, заваренный типичным корнем, с бабушкиными подмоченными постряпушками.
— Плавал на шаньгах-то? — полюбопытствовал Санька.
Дед ничего не спрашивал.
— Плавал! — отшил я Саньку.
После обеда я спустился к ключику, вымыл посуду и попутно принес воды. В старую кринку с отбитым краем я поставил ромашки, были они уже сникшие, но скоро поднялись, закучерявились густой зеленью, насорили желтой пыли и лепестков на стол.
— Хы! Как ровно девчонка! — снова взялся ехидничать Санька. Но дед, укладывавшийся после обеда отдохнуть на печке, окоротил его:
— Не цепляй парня. Раз у него душа к цветку лежит, значит, такая его душа. Значит, ему в этом свой смысел есть, значенье свое, нам непонятное. Вот.
Всю недельную норму слов дед высказал и отвернулся. Санька сразу примолк. То-то, брат! Это тебе не с теткой Васеней зубатиться, либо с бабушкой моей. Дед сказал, и точка. Не поворачиваясь от стены, дед еще добавил:
— Овод схлынет, пасти погоним. Сапоги-то и штаны сыми.
Мы вышли во двор, и я спросил:
— ЧЕ это дед сегодня такой разговорчивый?
— Не знаю, — пожал плечами Санька. — Обрадел, должно, при таком расфуфыренном внуке. — Санька поковырял ногтем в зубах и, глядя красными, сорожьими глазами на меня, спросил: — ЧЕ будем делать, монах в новых штанах?
— Додразнишься — уйду.
— Ладно, ладно, обидчивый какой! Понарошке ведь.
Мы побежали в поле. Санька показывал мне, где он боронил, сказал, что дедушка Илья учил его пахать, и еще добавил, что школу он бросит, как поднатореет пахать, станет зарабатывать деньги, купит себе штаны не трековые, а суконные — так и бросит.
Эти слова окончательно убедили меня — заело Саньку. Но что дальше последует — не догадывался, потому что простофилей был и остался.
За полосою густо идущего в рост овса, возле дороги была продолговатая бочажина. В ней почти не оставалось воды. По краям гладкая и черная, будто вар, грязища покрылась паутиной трещин. В середине, возле лужицы с ладошку величиной, сидела большая лягуха в скорбном молчании и думала, куда ей теперь деваться. В Мане и Манской речке вода быстрая — опрокинет кверху брюхом и унесет. Болото есть, но оно далеко — пропадешь, пока допрыгаешь. Лягушка вдруг сиганула в сторону, шлепнулась у моих ног — это Санька промчался по бочажине, да так резво, что я и ахнуть не успел. Он сел по ту сторону бочажины и об лопух вытер ноги.
— А тебе слабо!
— Мне-е? Слабо-о? — запетушился я, но тут же вспомнил, что не раз попадался на Санькину уду, и не перечесть, сколько имел через это неприятностей, бед со всякими последствиями. «Не-е, брат, не такой уж я маленький, чтоб ты меня надувал, как раньше!»
— Цветочки только рвать! — зудил Санька.
«Цветочки! Ну и что! Что ли это худо? Вон дед-то говорил как…»
Но тут я вспомнил, как на селе презрительно относятся к людям, которые рвут цветочки и всякой такой ерундой занимаются. На селе охотников-зверобоев поразвелось — пропасть. На пашне старики, бабы да ребятишки управляются. Мужики все на Мане из ружей палят да рыбачат, еще кедровые орехи добывают, продают в городе добычу. Цветочки в подарок женам привозят с базара, из стружек цветочки, синие, красные, белые — шуршат. Базарные цветочки бабы почтительно ставят на угловики и на иконы цепляют. А чтобы жарков, стародубов или саранок нарвать — этого мужики никогда не делают и детей своих сызмальства приучают дразнить и презирать людей вроде Васи-поляка, сапожника Жеребцова, печника Махунцова и всяких других самоходов, падких на развлечения, но непригодных для охотничьего промысла.
И Санька туда же! Он-то уж не будет цветочками заниматься. Он пахарь уже, сеятель, рабо-о-отник! А я, значит, так себе! Придурок, значит? Размазня? Так я себя распалил, так разозлился, что с храбрым гиком ринулся поперек бочажины.
В середине ямины, там, где сидела задумчивая лягуха, я разом, с отчетливой ясностью понял — снова оказался на уде. Я еще попытался дернуться раз-другой, но увидел Санькины разлапистые следы от лужицы в стороне — дрожь по мне пошла. Съедая взглядом округлую Санькину рожу с этими красными, будто у пьянчужки глазами, сказал:
— Гад!
Сказал и перестал бороться.
Санька бесновался вверху надо мной. Он бегал вокруг бочажины, прыгал, становился на руки:
— Аа-а, вляпался! А-га-га-а, дохвастался! А-га-га-а, монах в новых штанах! Штаны-то ха-ха-ха! Сапоги-то хо-хо-хо!
Я сжимал кулаки и кусал губы, чтобы не заплакать. Знал я — Санька только того и ждет, чтоб я расклеился, расхныкался, и он совсем меня растерзал бы, беспомощного, попавшего в ловушку. Ногам холодно. Меня засасывало все дальше и дальше, но я не просил, чтоб Санька вытаскивал меня, и не плакал. Санька еще поизмывался надо мною, да скоро уж прискучило ему это занятие, насытился он удовольствием.
— Скажи: «Миленький, хорошенький Санечка, помоги мне ради Христа!» Я, может, и выволоку тебя!
— Нет!
— Ах, нет?! Сиди тоды да завтрева.
Я стиснул зубы и поискал глазами камень или чурку. Ничего не было. Лягуха опять выползла из травы и глядела на меня с досадою, дескать, последнее пристанище отбили, злыдни.
— Уйди с глаз моих! Уйди, гад, лучше! Уйди! — закричал я и начал швырять в Саньку горстями грязи.
Санька ушел. Я вытер руки об рубаху. Над бочажиной, на меже шевельнулись листья белены — Санька в них спрятался. Из ямины мне видно только белену эту, репейника вершинку да еще часть дороги видно, ту, что поднимается в Манскую гору. По этой дороге я еще совсем недавно шел счастливый, любовался местностью и никакой бочажины не знал, никакого горя не ведал. А теперь вот в грязи завяз и жду. Чего жду?
Санька вылез из бурьяна, видно, осы его выгнали, может, и терпенья не хватило. Жрет какую-то траву. Пучку, должно быть. Он всегда жует чего-нибудь — живоглот пузатый!
— Так и будем сидеть?
— Нет, скоро упаду. Ноги уже остомели.
Санька перестал жевать пучку, с лица его слетела беспечность, понимать, должно быть, начинает, к чему дело клонится.
— Но ты, падина! — крикнул он, стягивая с себя штаны. — Упади только!
Стараюсь держаться на ногах, а они так отерпли ниже колен, что я их едва чувствую. Всего меня трясет от холода, качает от усталости.
— Безголовая кляча! — лез в грязь и ругался Санька. — Сколько я его надувал, он все одно надувается! — Санька пробовал подобраться ко мне с одной, с другой стороны — не получалось. Вязко. Наконец приблизился, заорал: — Руку давай! Давай! Уйду ведь! Взаправду уйду. Пропадешь тут вместе с новыми штанами!..
Я не дал ему руку. Он сгреб меня за шиворот, потянул, но сам колом пошел в жидкую глубь ямы. Он бросил меня, ринулся на берег, с трудом высвобождая ноги. Следы его тут же затягивало черной жижей, пузыри возникали в следах, с шипом и бульканьем лопаясь.
Санька на берегу. Глядел на меня испуганно, молча, что-то пытаясь сообразить. Я глядел мимо него. Ноги мои совсем подламывались, грязь мне казалась уже мягкой постелью. Хотелось опуститься в нее. Но я еще живой до пояса и маленько соображаю — опущусь и запросто могу захлебнуться.
— Эй, ты, чЕ молчишь?
Я ничего на это не ответил погубителю Саньке.
— Иди за дедушкой, гадина! Упаду ведь счас.
Санька заныл, заругался, будто пьяный мужик, матерно и бросился выдергивать меня из грязи. Он едва не стащил с меня рубаху, за руку стал дергать так, что я взревел от боли и принялся тыкать кулаком Саньке в морду, раз-другой достал. Дальше меня не засасывало, я, должно быть, достиг ногами твердого грунта, может, и мерзлой земли. Вытащить меня у Саньки ни силенок, ни сообразительности не хватило. Он совсем растерялся и не знал, что делать, как быть.
— Иди за дедушкой, гад!
Стуча зубами, натягивал Санька штаны прямо на грязные ноги.
— Миленький, не падай! — сначала шептал, потом закричал не своим голосом Санька и помчался к заимке. — Не па-а-да-а-ай, миленький… Не па-а-ада-ай!..
Слова у него с лаем вырывались, с гавканьем. Заревел Санька с испуга. «Так тебе, змею, и надо!»
От злости во мне прибавилось сил. Я поднял голову, увидел: с Манской горы спускаются двое. Кто-то кого-то ведет за руку. Вот они исчезли за тальниками, в Манской речке. Пьют, должно быть, или умываются. Такая уж речка — журчистая, быстрая. Никто мимо нее пройти не в силах.
А может, отдыхать сели? Тогда пропащее дело.
Но из-за бугра появилась голова в белом платке, даже сначала один только белый платок, потом лоб, потом лицо, потом уж и другого человека видно сделалось — это девчонка. Кто же идет-то? Кто? Да идите же вы скорее! Переставляют ноги ровно неживые!
Я не сводил взгляда с двух людей, размеренно идущих по дороге. По походке ли, по платку ли, по жесту ли руки, указывающей девчонке прямо на меня, скорее всего — на поле за бочажиной, узнал я бабушку.
— Ба-а-абонька! Ми-иленька-а!.. Ой, ба-абонька-а-а! — заревел я и повалился в грязь. Передо мной остались замытые водой скаты этой проклятой ямы. Даже белены не видно, даже лягуха упрыгала куда-то.
— Ба-а-аба-а-а! Ба-а-абонька-а-а! Тону я! Ой, тону-у-у!
— Тошно мне, тошнехонько! Ой, чуяло мое сердцеКак тебя, аспида, занесло туда? — услышал я над собой крик бабушки. — Ой, не зря сосало под ложечкой!.. Да кто же это тебя надоумил-то? Ой, скорее!
И еще дошли до меня слова, задумчиво и осудительно сказанные левонтьевской Танькой:
— Уш не лешаки ли тебя туда заташшыли?!
Шлепнула доска, другая, я почувствовал, как меня подхватили и, ровно бы ржавый гвоздь из бревна, медленно потянули, слышал, как с меня снимались сапоги, хотел крикнуть, да не успел. Дед выдернул меня из сапог, из грязи. С трудом вытягивая ноги, он пятился к берегу.
— Обутки-то! Сапоги-то! — показала бабушка в яму, где колыхалась взбаламученная грязь, вся в пузырях и плесневелой зелени. Безнадежно махнув рукой, дед поднялся на межу и лопухами стал вытирать ноги. Бабушка дрожащими руками обирала с моих новых штанов пригоршнями грязь и торжествующе, ровно бы доказывая кому-то, высказывалась:
— Не-ет, сердце мое не омманешь! Токо кровопивец этот за порог, оно так и заныло, так и заныло. А ты, старый, куды смотрел? Где ты был? Если бы загинул робенок?
— Не загинул жа…
Я лежал, уткнувшись носом в траву, и плакал от жалости к себе, от обиды. Бабушка взялась растирать мне ладонями ноги. Танька шарила по моему носу лопушком, ругалась вперебой с бабушкой:
— Ох, каторжанец Шанька! Я тятьке вшо-о рашшкажу, — и грозила пальцем вдаль: — Тятька, шур-шур-шур! — Разве у Таньки поймешь чего? Шуршит, как оса в меду.
Я глянул, куда она грозила, и заметил клубящуюся пыль вдали. Санька чесал во все лопатки от заимки к реке, чтоб укрыться в уремах до лучших времен. Теперь он будет жить воистину как беглый лесной разбойник.
Четвертый день лежу я на печке. Ноги мои укутаны в старое одеяло. Бабушка натирала их по три раза за день настоем ветреницы, муравьиным маслом и еще чем-то едучим и вонючим, отпаивала меня ромашкой и зверобоем. Ноги мои жгло и щипало так, что впору завыть, но бабушка уверяла, что так оно и быть должно, значит, вылечиваются ноги-то, раз жжение и боль чуют, и рассказывала о том, как и кого в свое время вылечила она и какие ей за это благодарствия были.
Саньку бабушка изловить не могла. Как я догадывался, дед выводил Саньку из-под намеченного возмездия. Он то наряжал Саньку в ночное — пасти скотину, то отсылал в лес с задельем. Бабушка вынуждена была поносить дедушку и меня, но мы люди к этому привычные, дед только кряхтел да пуще дымил цигаркою, я похихикивал в подушку да перемигивался с дедом.
Штаны мои бабушка выстирала, сапоги так и остались в бочажине. Жалко сапоги. Штаны тоже не те, что были. Материя не блестит, синь слиняла, штаны разом поблекли, увяли, будто цветы, сорванные с земли. «Эх, Санька, Санька!» — вздыхал я — мне жалко Саньку сделалось.
— Опять рематизня донимат? — поднялась на приступок печки бабушка, заслышав мое кряхтенье.
— Жарко тут.
— Жар кости не ломит. Ложилось дураку — по три чирья на боку. Терпи. А то обезножеешь — а сама к окну, Приложила руку, выглядывает. — И куда он этого супостата спровадил! Поглядите-ка, люди добрые! Говорила самому: ни от камня плода, ни от плута добра! Оне на меня союзом!.. Сам-от веху разбойнику дает, от меня спасат.
Тут — беда к беде — дед курицу проворонил. Курица эта пестрая вот уже лета по три норовила произвести цыплят. Но бабушка считала, что для этого дела есть более подходящие курицы, купала пеструшку в холодной воде, хлестала веником, принуждая нести яйца. Хохлатка же проявила прямо-таки солдатскую стойкость: где-то втихую нанесла яиц и, не глядя на бабушкин запрет, схоронилась и высиживала потомство.
Вечером засветилось в окне, замелькало, затрещало — это за ключом, на берегу реки запластал шалаш, сделанный по весне охотниками. Из шалаша с кудахтаньем выпорхнула наша хохлатка, не задевая земли, взлетела на избу, вся взъерошенная, клохчущая, дергала поврежденным зобом и головой.
Началось дознание, и выяснилось: Санька унес табачку из корыта деда, покуривал в шалаше и заронил искру.
— Он так и заимку спалит, не моргнет! — шумела бабушка, но шумела уж как-то негрозно, на исходе, должно быть, из-за курицы смягчилось ее сердце, может, и перекипела гневом внутри себя. Словом, она сказала деду, чтоб Санька не прятался больше, ночевал бы дома, и унеслась в село — дел у нее там много накопилось.
Дел у нее, конечно, всегда по горло, однако же главная забота — что без нее в селе, как без командира на войне — разброд, смятение, неразбериха, все сбилось с шагу, и надо направлять скорее строй и дисциплину.
От тишины ли, от того ли, что бабушка наладила замирение с Санькой, я уснул и проснулся на закате дня, весь светлый и облегченный, свалился с печи вниз и чуть не вскрикнул. В той самой кринке с отбитым краем полыхал огромный букет алых горных саранок с загнутыми лепестками.
Лето! Совсем уж полное лето пришло!
У притолоки стоял Санька, на пол слюной циркал в дырку меж зубов. Он жевал серу, и слюны накопилось у него много.
— Откусить серы?
— Откуси.
Санька откусил шматок лиственничной серы. Я тоже принялся жевать ее с прищелком.
— Лиственницу со сплава к берегу прибило, и я наколупал. — Санька циркнул слюной от печки и аж до окна. Я тоже циркнул, но мне на грудь угодило.
— Болят ноги-то?
— Совсем чуточку. Я уж завтра побегу.
— Харюз хорошо стал брать на паута и на таракана. Скоро на кобылку пойдет.
— Возьмешь меня?
— Так и отпустила тебя Катерина Петровна!
— Ее ж нету!
— Припрется!
— Я отпрошусь.
— Ну, если отпросишься… — Санька обернулся ко двору, ровно бы принюхался, затем подлез к моему уху:
— Курить будешь? Вот! Я у дедушки стибрил. — Он показал горсть табаку, бумаги клок и обломок от спичечного коробка. — Курить мирово! Слышал, как я вчерась салаш-то? Курица оттеда турманом летела! Умора! Катерина Петровна крестится: «Восподь спаси! Христос спаси!» Умора!
— Ох, Санька, Санька! — совсем уж все прощая ему, повторил я бабушкины слова. — Не сносить тебе удалой головы!..
— Ништя-аак! — с облегчением отмахнулся Санька и вынул из пятки занозу. Брусничкой выкатилась капля крови. Санька плюнул на ладонь и затер пятку.
Я смотрел на нежно алеющие кольца саранок, на тычинки их вроде молоточков, высунувшиеся из цветков, слушал, как на чердаке возились, наговаривали меж собой хлопотливые ласточки. Одна ласточка недовольна чем-то, говорит-говорит и вскрикнет, будто тетка Авдотья на девок своих, когда те с гулянья домой являются, или на мужа — Терентия, когда тот из плаванья придет.
Во дворе дедушка потюкивал топором да покашливал. За частоколом палисадника голубой лоскут реки виден. Я надел свои, теперь уже обжитые, привычные штаны, в которых где угодно и на что угодно можно садиться.
— Куда ты? — погрозил пальцем Санька. — НельзяБабушка Катерина не велела!
Ничего я не ответил ему, подошел к столу и дотронулся рукой до раскаленных, но не обжигающих руку саранок.
— Смотри, бабушка заругается. Ишь, поднялся! ХрабЕр! — бормотал Санька, отвлекал меня, зубы заговаривал. — Потом опеть издыхать примешься…
— Какой дедушка добрый, саранок мне нарвал, — помог я выкрутиться Саньке из трудного положения. Он помаленечку, полегонечку выпятился из избы, довольный таким исходом дела. Я медленно выбрался на улицу, на солнце. Голову мою кружило, ноги еще дрожали и пощелкивали. Дедушка под навесом, отложив топор, которым обтесывал литовище, смотрел на меня, как только он и мог смотреть — все так понятно говоря взглядом. Санька скребком чистил нашего Ястреба, а тому, видать, щекотливо, и он дрожал кожей, дрыгал ногой.
— Н-н-но-о, ты, попляши у меня! — прикрикнул на мерина Санька. А что кричать на конягу, которой нет выносливей и терпеливей в селе, которую даже бабушка балует, иногда хлебцем-корочкой, и говорит с насмешкой, что наш конь жил у семи попов, по семи годов, а все ему семь лет от роду…
Старенький, старенький Ястреб! Ну и что? И дед старенький, да лучше его нет на свете человека. Цена не по летам, а по делам…
Как тепло вокруг, зелено, шумно, весело! Стрижи над речкой кружатся, падают встречь своей тени на воду. Плишки почиликивают, осы гудят, бревна вперегонки по воде мчатся. Скоро можно будет купаться — Лидии-купальницы наступят. Может, и мне дозволят купаться. Лихорадка-то не возвернулась, чуть только голову обносит да ноги в суставах ломит. Ну а не разрешат, так я и сам потихоньку выкупаюсь. С Санькой умотаю на реку и выкупаюсь.
Мы с Санькой, держась с двух сторон за оброть, повели Ястреба к реке. Он спускался по каменистому бычку, опасливо расставлял передние ноги скамейкой, тормозил себя изношенными, продырявленными гвоздьем копытами. В воду забрел, остановился, тронул дряблыми губами отражение в воде, будто поцеловался с таким же старым пегим конем.
Мы брызгали на него водой. Конь передернулся кожей на спине и, громко бухая копытами по камням, удало мотая бородатой головой, побрел вглубь, мы за ним, охая, держась за гриву и за хвост, тащились. Выбрел Ястреб на галечный мысок, остановился по брюхо в воде и отдался на волю течения.
Мы скребли голиком прогнутую, трудовыми мозолями покрытую спину, шею, грудь. Ястреб подрагивал кожей в радостной истоме, переступал ногами и даже пробовал играть, хватал нас отвислой губой за воротники.
— Н-не балуй! — громко кричали мы. Но Ястреб не слушался, да мы и не ждали, чтоб он слушался, орали просто так, по привычке, на конягу.
На спину коню норовили сесть плишки, чтобы склевать роящихся на потертостях конской кожи мух либо слепня-кровососа сцапать, припаявшегося к крупу лошади.
На бычке стоял дед в выпущенной рубахе, босой. Ветерок трепал его волосы, шевелил бороду, полоскал расстегнутую рубаху на выпуклой, раздвоенной груди. И напоминал дед российского богатыря во времена похода, сделавшего передышку, — остановился богатырь озреть родную землю, подышать ее целительным воздухом.
Хорошо-то как! Ястреб купается. Дед на каменном бычке стоит, забылся, лето в шуме, суете, в нескучных хлопотах подкатило. Каждая пичуга, каждая мошка, блошка, муравьишко заняты делом; Ягоды вот-вот пойдут, грибы. Огурцы скоро нальются, картошки подкапывать начнут, там и другая огородина поспеет на стол, там и хлеб зашуршит спелым колосом — страда подойдет. Можно жить на этом свете! И шут с ним, со штанами и с сапогами тоже. Наживу еще. Заработаю.
4. Бажов П.П. Малахитовая шкатулка
МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА. П. П. БАЖОВ
У Настасьи, степановой-то вдовы, шкатулка малахитова осталась. Со всяким женским прибором. Кольца там, серьги и протча по женскому обряду. Сама Хозяйка Медной горы одарила Степана этой шкатулкой, как он еще жениться собирался.
Настасья в сиротстве росла, не привыкла к экому-то богатству, да и не шибко любительница была моду выводить. С первых годов, как жили со Степаном, надевывала, конечно, из этой шкатулки. Только не к душе ей пришлось. Наденет кольцо… Ровно как раз впору, не жмет, не скатывается, а пойдет в церкву или в гости куда — замается. Как закованный палец-то, в конце нали посинеет. Серьги навесит — хуже того. Уши так оттянет, что мочки распухнут. А на руку взять — не тяжелее тех, какие Настасья всегда носила. Буски в шесть ли, семь рядов только раз и примерила. Как лед кругом шеи-то, и не согреваются нисколько. На люди те буски вовсе не показывала. Стыдно было.
— Ишь, скажут, какая царица в Полевой выискалась!
Степан тоже не понуждал жену носить из этой шкатулки. Раз даже как-то сказал:
— Убери-ко куда от греха подальше.
Настасья и поставила шкатулку в самый нижний сундук, где холсты и протча про запас держат.
Как Степан умер да камешки у него в мертвой руке оказались, Настасье и причтелось ту шкатулку чужим людям показать. А тот знающий, который про Степановы камешки обсказал, и говорит Настасье потом, как народ схлынул:
— Ты, гляди, не мотни эту шкатулку за пустяк. Больших тысяч она стоит.
Он, этот человек-от, ученой был, тоже из вольных. Ране-то в щегарях ходил, да его отстранили: ослабу-де народу дает. Ну, и винцом не брезговал. Тоже добра кабацка затычка был, не тем будь помянут, покойна головушка. А так во всем правильный. Прошенье написать, пробу смыть, знаки оглядеть — все по совести делал, не как иные протчие, абы на полштофа сорвать. Кому-кому, а ему всяк поднесет стаканушку праздничным делом. Так он на нашем заводе и до смерти дожил. Около народа питался.
Настасья от мужа слыхала, что этот щегарь правильный и в делах смышленый, даром что к винишку пристрастье поимел. Ну, и послушалась его.
— Ладно, — говорит, — поберегу на черный день. — И поставила шкатулку на старо место.
Схоронили Степана, сорочины отправили честь честью. Настасья — баба в соку, да и с достатком, стали к ней присватываться. А она, женщина умная, говорит всем одно:
— Хоть золотой второй, а все робятам вотчим.
Ну, отстали по времени.
Степан хорошее обеспечение семье оставил. Дом справный, лошадь, корова, обзаведенье полное. Настасья баба работящая, робятишки пословные, не охтимнеченьки живут. Год живут, два живут, три живут. Ну, забеднели все-таки. Где же одной женщине с малолетками хозяйство управить! Тоже ведь и копейку добыть где-то надо. На соль хоть. Тут родня и давай Настасье в уши напевать:
— Продай шкатулку-то! На что она тебе? Что впусте добру лежать. Все едино и Танюшка, как вырастет, носить не будет. Вон там штучки какие! Только барам да купцам впору покупать. С нашим-то ремьем не наденешь эко место. А люди деньги бы дали. Разоставок тебе.
Однем словом, наговаривают. И покупатель, как ворон на кости, налетел. Из купцов всё. Кто сто рублей дает, кто двести.
— Робят-де твоих жалеем, по вдовьему положению нисхождение тебе делаем.
Ну, оболванить ладят бабу, да не на ту попали.
Настасья хорошо запомнила, что ей старый щегарь говорил, не продает за такой пустяк. Тоже и жалко. Как-никак женихово подаренье, мужнина память. А пуще того девчоночка у ней младшенькая слезами улилась, просит:
— Мамонька, не продавай! Мамонька, не продавай! Лучше я в люди пойду, а тятину памятку побереги.
От Степана, вишь, осталось трое робятишек-то. Двое парнишечки. Робята как робята, а эта, как говорится, ни в мать, ни в отца. Еще при степановой бытности, как вовсе маленькая была, на эту девчоночку люди дивовались. Не то что девки-бабы, а и мужики Степану говорили:
— Не иначе эта у тебя, Степан, из кистей выпала. В кого только зародилась! Сама черненька да бассенька[1], а глазки зелененьки. На наших девчонок будто и вовсе не походит.
Степан пошутит, бывало:
— Это не диво, что черненька. Отец-то ведь с малых лет в земле скыркался. А что глазки зеленые — тоже дивить не приходится. Мало ли я малахиту барину Турчанинову набил. Вот памятка мне и осталась.
Так эту девчоночку Памяткой и звал. — Ну-ка ты, Памятка моя! — И когда случалось ей что покупать, так завсегда голубенького либо зеленого принесет.
Вот и росла та девчоночка на примете у людей. Ровно и всамделе гарусинка из праздничного пояса выпала — далеко ее видно. И хоть она не шибко к чужим людям ластилась, а всяк ей — Танюшка да Танюшка. Самые завидущие бабешки и те любовались. Ну, как, — красота! Всякому мило. Одна мать повздыхивала:
— Красота-то — красота, да не наша. Ровно кто подменил мне девчонку.
По Степану шибко эта девчоночка убивалась. Чисто уревелась вся, с лица похудела, одни глаза остались. Мать и придумала дать Танюшке ту шкатулку малахитову — пущай-де позабавится. Хоть маленькая, а девчоночка, — с малых лет им лестно на себя-то навздевать. Танюшка и занялась разбирать эти штучки. И вот диво — которую примеряет, та и по ней.
Мать-то иное и не знала к чему, а эта все знает. Да еще говорит:
— Мамонька, сколь хорошо тятино-то подаренье! Тепло от него, будто на пригревинке сидишь, — да еще кто тебя мягким гладит.
Настасья сама нашивала, помнит, как у нее пальцы затекали, уши болели, шея не могла согреться. Вот и думает: «Неспроста это. Ой, неспроста!» — да поскорее шкатулку-то опять в сундук. Только Танюшка с той поры нет-нет и запросит:
— Мамонька, дай поиграть тятиным подареньем!
Настасья когда и пристрожит, ну, материнско сердце — пожалеет, достанет шкатулку, только накажет:
— Не изломай чего!
Потом, когда подросла Танюшка, она и сама стала шкатулку доставать. Уедет мать со старшими парнишечками на покос или еще куда, Танюшка останется домовничать. Сперва, конечно, управит, что мать наказывала. Ну, чашки-ложки перемыть, скатерку стряхнуть, в избе-сенях веничком подмахнуть, куричешкам корму дать, в печке поглядеть. Справит все поскорее, да и за шкатулку. Из верхних-то сундуков к тому времени один остался, да и тот легонький стал. Танюшка сдвинет его на табуреточку, достанет шкатулку и перебирает камешки, любуется, на себя примеряет.
Раз к ней и забрался хитник. То ли он в ограде спозаранку прихоронился, то ли потом незаметно где пролез, только из суседей никто не видал, чтобы он по улице проходил. Человек незнамый, а по делу видать кто-то навел его, весь порядок обсказал.
Как Настасья уехала, Танюшка побегала много-мало по хозяйству и забралась в избу поиграть отцовскими камешками. Надела наголовник, серьги навесила. В это время и пых в избу этот хитник. Танюшка оглянулась — на пороге мужик незнакомый, с топором. И топор-то ихний. В сенках, в уголочке стоял. Только что Танюшка его переставляла, как в сенках мела. Испугалась Танюшка, сидит, как замерла, а мужик сойкнул, топор выронил и обеими руками глаза захватил, как обожгло их. Стонет-кричит:
— Ой, батюшки, ослеп я! Ой, ослеп! — а сам глаза трет.
Танюшка видит — неладно с человеком, стала спрашивать:
— Ты как, дяденька, к нам зашел, пошто топор взял?
А тот, знай, стонет да глаза свои трет. Танюшка его и пожалела — зачерпнула ковшик воды, хотела подать, а мужик так и шарахнулся спиной к двери.
— Ой, не подходи! — Так в сенках и сидел и двери завалил, чтобы Танюшка ненароком не выскочила. Да она нашла ход — выбежала через окошко и к суседям. Ну, пришли. Стали спрашивать, что за человек, каким случаем? Тот промигался маленько, объясняет — проходящий-де, милостинку хотел попросить, да что-то с глазами попритчилось.
— Как солнцем ударило. Думал — вовсе ослепну. От жары, что ли.
Про топор и камешки Танюшка суседям не сказала. Те и думают:
«Пустяшно дело. Может, сама же забыла ворота запереть, вот проходящий и зашел, а тут с ним и случилось что-то. Мало ли бывает».
До Настасьи все-таки проходящего не отпустили. Когда она с сыновьями приехала, этот человек ей рассказал, что суседям рассказывал. Настасья видит — все в сохранности, вязаться не стала. Ушел тот человек, и суседи тоже.
Тогда Танюшка матери и выложила, как дело было. Тут Настасья и поняла, что за шкатулкой приходил, да взять-то ее, видно, не просто.
А сама думает:
«Оберегать-то ее все ж таки покрепче надо».
Взяла да потихоньку от Танюшки и других робят и зарыла ту шкатулку в голбец[2].
Уехали опять все семейные. Танюшка хватилась шкатулки, а ее быть бывало. Горько это показалось Танюшке, а тут вдруг теплом ее опахнуло. Что за штука? Откуда? Огляделась, а из-под полу свет. Танюшка испугалась — не пожар ли? Заглянула в голбец, там в одном уголке свет. Схватила ведро, плеснуть хотела — только ведь огня-то нет и дымом не пахнет. Покопалась в том месте, видит — шкатулка. Открыла, а камни-то ровно еще краше стали. Так и горят разными огоньками, и светло от них, как при солнышке. Танюшка и в избу не потащила шкатулку. Тут в голбце и наигралась досыта.
Так с той поры и повелось. Мать думает: «Вот хорошо спрятала, никто не знает», — а дочь, как домовничать, так и урвет часок поиграть дорогим отцовским подареньем. Насчет продажи Настасья и говорить родне не давала.
— По миру впору придет — тогда продам.
Хоть круто ей приходилось, — а укрепилась. Так еще сколько-то годов перемогались, дальше на поправу пошло. Старшие робята стали зарабатывать маленько, да и Танюшка не сложа руки сидела. Она, слышь-ко, научилась шелками да бисером шить. И так научилась, что самолучшие барские мастерицы руками хлопали — откуда узоры берет, где шелка достает?
А тоже случаем вышло. Приходит к ним женщина. Небольшого росту, чернявая, в Настасьиных уж годах, и востроглазая и, по всему видать, шмыгало такое, что только держись. На спине котомочка холщовая, в руке черемуховый бадожок[3], вроде как странница. Просится у Настасьи:
— Нельзя ли, хозяюшка, у тебя денек-другой отдохнуть? Ноженьки не несут, а идти не близко.
Настасья сперва подумала, не подослана ли опять за шкатулкой, потом все-таки пустила.
— Места не жалко. Не пролежишь, поди, и с собой не унесешь. Только вот кусок-то у нас сиротский. Утром — лучок с кваском, вечером квасок с лучком, вся и перемена. Отощать не боишься, так милости просим, живи, сколь надо.
А странница уж бадожок свой поставила, котомку на припечье положила и обуточки снимает. Настасье это не по нраву пришлось, а смолчала.
«Ишь неочесливая! Приветить ее не успели, а она нако — обутки сняла и котомку развязала».
Женщина, и верно, котомочку расстегнула и пальцем манит к себе Танюшку:
— Иди-ко, дитятко, погляди на мое рукоделье. Коли поглянется, и тебя выучу… Видать, цепкий глазок-то на это будет!
Танюшка подошла, а женщина и подает ей ширинку маленькую, концы шелком вышиты. И такой-то, слышь-ко, жаркий узор на той ширинке, что ровно в избе светлее и теплее стало.
Танюшка так глазами и впилась, а женщина посмеивается.
— Поглянулось, знать, доченька, мое рукодельице? Хочешь — выучу?
— Хочу, — говорит.
Настасья так и взъелась:
— И думать забудь! Соли купить не на что, а ты придумала шелками шить! Припасы-то, поди-ко, денег стоят.
— Про то не беспокойся, хозяюшка, — говорит странница. — Будет понятие у доченьки — будут и припасы. За твою хлеб-соль оставлю ей — надолго хватит. А дальше сама увидишь. За наше-то мастерство денежки платят. Не даром работу отдаем. Кусок имеем.
Тут Настасье уступить пришлось.
— Коли припасов уделишь, так о чем не поучиться. Пущай поучится, сколь понятия хватит. Спасибо тебе скажу.
Вот эта женщина и занялась Танюшку учить. Скорехонько Танюшка все переняла, будто раньше которое знала. Да вот еще что. Танюшка не то что к чужим, к своим неласковая была, а к этой женщине так и льнет, так и льнет. Настасья скоса запоглядывала:
«Нашла себе новую родню. К матери не подойдет, а к бродяжке прилипла!»
А та еще ровно дразнит, все Танюшку дитятком да доченькой зовет, а крещеное имя ни разочку не помянула. Танюшка видит, что мать в обиде, а не может себя сдержать. До того, слышь-ко, вверилась этой женщине, что ведь сказала ей про шкатулку-то!
— Есть, — говорит, — у нас дорогая тятина памятка — шкатулка малахитова. Вот где каменья! Век бы на них глядела.
— Мне покажешь, доченька? — спрашивает женщина.
Танюшка даже не подумала, что это неладно.
— Покажу, — говорит, — когда дома никого из семейных не будет.
Как вывернулся такой часок, Танюшка и позвала ту женщину в голбец. Достала Танюшка шкатулку, показывает, а женщина поглядела маленько да и говорит:
— Надень-ко на себя — виднее будет.
Ну, Танюшка, — не того слова, — стала надевать, а та, знай, похваливает.
— Ладно, доченька, ладно! Капельку только поправить надо.
Подошла поближе, да и давай пальцем в камешки тыкать. Который заденет — тот и загорится по-другому. Танюшке иное видно, иное — нет. После этого женщина и говорит:
— Встань-ко, доченька, пряменько.
Танюшка встала, а женщина и давай ее потихоньку гладить по волосам, по спине. Всю огладила, а сама наставляет:
— Заставлю тебя повернуться, так ты, смотри, на меня не оглядывайся. Вперед гляди, примечай, что будет, а ничего не говори. Ну, поворачивайся!
Повернулась Танюшка — перед ней помещение, какого она отродясь не видывала. Не то церква, не то что. Потолки высоченные на столбах из чистого малахиту. Стены тоже в рост человека малахитом выложены, а по верхнему карнизу малахитовый узор прошел. Прямо перед Танюшкой, как вот в зеркале, стоит красавица, про каких только в сказках сказывают. Волосы, как ночь, а глаза зеленые. И вся-то она изукрашена дорогими каменьями, а платье на ней из зеленого бархату с переливом. И так это платье сшито, как вот у цариц на картинках. На чем только держится. Со стыда бы наши заводские сгорели на людях такое надеть, а эта зеленоглазая стоит себе спокойнешенько, будто так и надо. Народу в том помещенье полно. По-господски одеты, и все в золоте да заслугах. У кого спереду навешано, у кого сзади нашито, а у кого и со всех сторон. Видать, самое вышнее начальство. И бабы ихние тут же. Тоже голоруки, гологруды, каменьями увешаны. Только где им до зеленоглазой! Ни одна в подметки не годится.
В ряд с зеленоглазой какой-то белобрысенький. Глаза враскос, уши пенечками, как есть заяц. А одежа на нем — уму помраченье. Этому золота-то мало показалось, так он, слышь-ко, на обую камни насадил. Да такие сильные, что, может, в десять лет один такой найдут. Сразу видать — заводчик это. Лопочет тот заяц зеленоглазой-то, а она хоть бы бровью повела, будто его вовсе нет.
Танюшка глядит на эту барыню, дивится на нее и только тут заметила:
— Ведь каменья-то на ней тятины! — сойкала Танюшка, и ничего не стало.
А женщина та посмеивается:
— Недоглядела, доченька! Не тужи, по времени доглядишь.
Танюшка, конечно, доспрашивается — где это такое помещенье?
— А это, — говорит, — царский дворец. Та самая палата, коя здешним малахитом изукрашена — твой покойный отец его добывал-то.
— А это кто в тятиных уборах и какой это с ней заяц?
— Ну, этого не скажу, сама скоро узнаешь.
В тот же день, как пришла Настасья домой, эта женщина собираться в дорогу стала. Поклонилась низенько хозяйке, подала Танюшке узелок с шелками да бисером, потом достала пуговку махонькую. То ли она из стекла, то ли из дурмашка на простую грань обделана.
Подает ее Танюшке, да и говорит:
— Прими-ко, доченька, от меня памятку. Как что забудешь по работе либо трудный случай подойдет, погляди на эту пуговку. Тут тебе ответ и будет.
Сказала так-то и ушла. Только ее и видели.
С той поры Танюшка и стала мастерицей, а уж в годы входить стала, вовсе невестой глядит. Заводские парни о Настасьины окошки глаза обмозолили, а подступить к Танюшке боятся. Вишь, неласковая она, невеселая, да и за крепостного где же вольная пойдет. Кому охота петлю надевать?
В барском доме тоже проведали про Танюшку из-за мастерства-то ее. Подсылать к ней стали. Лакея помоложе да поладнее оденут по-господски, часы с цепкой дадут и пошлют к Танюшке, будто за делом каким. Думают, не обзарится ли девка на экого молодца. Тогда ее обратать можно. Толку все ж таки не выходило. Скажет Танюшка что по делу, а другие разговоры того лакея безо внимания. Надоест, так еще надсмешку подстроит:
— Ступай-ко, любезный, ступай! Ждут ведь. Боятся, поди, как бы у тебя часы по́том не изошли и цепка не помедела. Вишь, без привычки-то как ты их мозолишь.
Ну, лакею или другому барскому служке эти слова, как собаке кипяток. Бежит, как ошпаренный, фырчит про себя:
— Разве это девка? Статуй каменный, зеленоглазый! Такую ли найдем!
Фырчит так-то, а самого уж захлестнуло. Которого пошлют, забыть не может Танюшкину красоту. Как привороженного к тому месту тянет — хоть мимо пройти, в окошко поглядеть. По праздникам чуть не всему заводскому холостяжнику дело на той улице. Дорогу у самых окошек проторили, а Танюшка и не глядит.
Суседки уж стали Настасью корить:
— Что это у тебя Татьяна шибко высоко себя повела? Подружек у ней нет, на парней глядеть не хочет. Царевича-королевича ждет аль в Христовы невесты ладится?
Настасья на эти покоры только вздыхает:
— Ой, бабоньки, и сама не ведаю. И так-то у меня девка мудреная была, а колдунья эта проходящая вконец ее извела. Станешь ей говорить, а она уставится на свою колдовскую пуговку и молчит. Так бы и выбросила эту проклятую пуговку, да по делу она ей на пользу. Как шелка переменить или что, так в пуговку и глядит. Казала и мне, да у меня, видно, глаза тупы стали, не вижу. Налупила бы девку, да, вишь, она у нас старательница. Почитай, ее работой только и живем. Думаю-думаю так-то да и зареву. Ну, тогда она скажет: «Мамонька, ведь знаю я, что тут моей судьбы нет. То никого и не привечаю и на игрища не хожу. Что зря людей в тоску вгонять? А что под окошком сижу, так работа моя того требует. За что на меня приходишь? Что я худого сделала?» Вот и ответь ей!
Ну, жить все ж таки ладно стали. Танюшкино рукоделье на моду пошло. Не то что в заводе аль в нашем городе, по другим местам про него узнали, заказы посылают и деньги платят немалые. Доброму мужику впору столько-то заробить.
Только тут беда их и пристигла — пожар случился. А ночью дело было. Пригон, завозня, лошадь, корова, снасть всяка — все сгорело. С тем только и остались, в чем выскочили. Шкатулку, однако, Настасья выхватила, успела-таки. На другой день и говорит.
— Видно, край пришел — придется продать шкатулку.
Сыновья в один голос:
— Продавай, мамонька. Не продешеви только.
Танюшка украдкой на пуговку поглядела, а там зеленоглазая маячит — пущай продают. Горько стало Танюшке, а что поделаешь? Все равно уйдет отцова памятка этой зеленоглазой. Вздохнула и говорит.
— Продавать — так продавать. — И даже не стала на прощанье те камни глядеть. И то сказать — у суседей приютились, где тут раскладываться.
Придумали так — продать-то, а купцы уж тут как тут. Кто, может, сам и поджог-то подстроил, чтобы шкатулкой завладеть. Тоже ведь народишко-то — ноготок, доцарапается! Видят, — робята подросли — больше дают. Пятьсот там, семьсот, один до тысячи дошел. По заводу деньги немалые, можно на их обзавестись. Ну, Настасья запросила все-таки две тысячи. Ходят, значит, к ней, рядятся. Накидывают помаленьку, а сами друг от друга таятся, сговориться меж собой не могут. Вишь, кусок-то такой — ни одному отступиться неохота. Пока они так-то ходили, в Полевую и приехал новый приказчик.
Когда ведь они — приказчики-то — подолгу сидят, а в те годы им какой-то перевод случился. Душно́го козла, который при Степане был, старый барин на Крылатовско за вонь отставил. Потом был Жареной Зад. Рабочие его на болванку посадили. Тут заступил Северьян Убойца. Этого опять Хозяйка Медной горы в пусту породу перекинула. Там еще двое ли, трое каких-то были, а потом и приехал этот.
Он, сказывают, из чужестранных земель был, на всяких языках будто говорил, а по-русски похуже. Чисто-то выговаривал одно — пороть. Свысока так, с растяжкой — па-роть. О какой недостаче ему заговорят, одно кричит: пароть! Его Паротей и прозвали.
На деле этот Паротя не шибко худой был. Он хоть кричал, а вовсе народ на пожарну не гонял. Тамошним охлестышам вовсе и дела не стало. Вздохнул маленько народ при этом Пароте.
Тут, вишь, штука-то в чем. Старый барин к той поре вовсе утлый стал, еле ногами перебирал. Он и придумал сына женить на какой-то там графине ли, что ли. Ну, а у этого молодого барина была полюбовница, и он к ей большую приверженность имел. Как делу быть? Неловко все ж таки. Что новые сватовья скажут? Вот старый барин и стал сговаривать ту женщину сынову-то полюбовницу — за музыканта. У барина же этот музыкант служил. Робятишек на музыках обучал и так разговору чужестранному, как ведется по ихнему положению.
— Чем, — говорит, — тебе так-то жить — на худой славе, выходи-ко ты замуж. Приданым тебя оделю, а мужа приказчиком в Полевую пошлю. Там дело направлено, пущай только построже народ держит. Хватит, поди, на это толку, что хоть и музыкант. А ты с ним лучше лучшего проживешь в Полевой-то. Первый человек, можно сказать, будешь. Почет тебе, уважение от всякого. Чем плохо?
Бабочка сговорная оказалась. То ли она в рассорке с молодым барином была, то ли хитрость поимела.
— Давно, — говорит, — об этом мечтанье имела, да сказать — не насмелилась.
Ну, музыкант, конечно, сперва уперся:
— Не желаю, — шибко про нее худа слава, потаскуха вроде.
Только барин — старичонко хитрой. Недаром заводы нажил. Живо обломал этого музыканта. Припугнул чем али улестил, либо подпоил — ихнее дело, только вскорости свадьбу справили, и молодые поехали в Полевую. Так вот Паротя и появился в нашем заводе. Недолго только прожил, а так — что зря говорить — человек не вредный. Потом, как Полторы Хари вместо его заступил — из своих заводских, так жалели даже этого Паротю.
Приехал с женой Паротя как раз в ту пору, как купцы Настасью обхаживали. Паротина баба тоже видная была. Белая да румяная — однем словом, полюбовница. Небось, худу-то бы не взял барин. Тоже, поди, выбирал! Вот эта Паротина жена и прослышала — шкатулку продают. «Дай-ко, — думает, — посмотрю, может, всамделе стоющее что». Живехонько срядилась и прикатила к Настасье. Им ведь лошадки-то заводские завсегда готовы!
— Ну-ко, — говорит, — милая, покажи, какие-такие камешки продаешь?
Настасья достала шкатулку, показывает. У Паротиной бабы и глаза забегали. Она, слышь-ко, в Сам-Петербурхе воспитывалась, в заграницах разных с молодым барином бывала, толк в этих нарядах имела. «Что же это, — думает, — такое? У самой царицы эдаких украшениев нет, а тут нако — в Полевой, у погорельцев! Как бы только не сорвалась покупочка».
— Сколько, — спрашивает, — просишь?
Настасья говорит:
— Две бы тысячи охота взять.
— Ну, милая, собирайся! Поедем ко мне со шкатулкой. Там деньги сполна получишь.
Настасья, однако, на это не подалась.
— У нас, — говорит, — такого обычая нет, чтобы хлеб за брюхом ходил. Принесешь деньги — шкатулка твоя.
Барыня видит — вон какая женщина, — живо скрутилась за деньгами, а сама наказывает:
— Ты уж, милая, не продавай шкатулку.
Настасья отвечает:
— Это будь в надежде. От своего слова не отопрусь. До вечера ждать буду, а дальше моя воля.
Уехала Паротина жена, а купцы-то и набежали все разом. Они, вишь, следили. Спрашивают:
— Ну, как?
— Запродала, — отвечает Настасья.
— За сколь?
— За две, как назначила.
— Что ты, — кричат, — ума решилась али что? В чужие руки отдаешь, а своим отказываешь! — И давай-ко цену набавлять.
Ну, Настасья на эту удочку не клюнула.
— Это, — говорит, — вам привышно дело в словах вертеться, а мне не доводилось. Обнадежила женщину, и разговору конец!
Паротина баба крутехонько обернулась. Привезла деньги, передала из ручки в ручку, подхватила шкатулку и айда домой. Только на порог, а навстречу Танюшка. Она, вишь, куда-то ходила, и вся эта продажа без нее была. Видит — барыня какая-то, и со шкатулкой. Уставилась на нее Танюшка — дескать, не та ведь, какую тогда видела. А Паротина жена пуще того воззрилась.
— Что за наваждение? Чья такая? — спрашивает.
— Дочерью люди зовут, — отвечает Настасья. — Самая как есть наследница шкатулки-то, кою ты купила. Не продала бы, кабы не край пришел. С малолетства любила этими уборами играть. Играет да нахваливает — как-де от них тепло да хорошо. Да что об этом говорить! Что с возу пало — то пропало!
— Напрасно, милая, так думаешь, — говорит Паротина баба. — Найду я ме́стичко этим каменьям. — А про себя думает: «Хорошо, что эта зеленоглазая силы своей не чует. Покажись такая в Сам-Петербурхе, царями бы вертела. Надо — мой-то дурачок Турчанинов ее не увидал».
С тем и разошлись.
Паротина жена, как приехала домой, похвасталась:
— Теперь, друг любезный, я не то что тобой, и Турчаниновым не понуждаюсь. Чуть что — до свиданья! Уеду в Сам-Петербурх либо, того лучше, в заграницу, продам шкатулочку и таких-то мужей, как ты, две дюжины куплю, коли надобность случится.
Похвасталась, а показать на себе новокупку все ж таки охота. Ну, как — женщина! Подбежала к зеркалу и первым делом наголовник пристроила. — Ой, ой, что такое! — Терпенья нет — крутит и дерет волосы-то. Еле выпростала. А неймется. Серьги надела — чуть мочки не разорвала. Палец в перстень сунула — заковало, еле с мылом стащила. Муж посмеивается: не таким, видно, носить!
А она думает: «Что за штука? Надо в город ехать, мастеру показать. Подгонит как надо, только бы камни не подменил».
Сказано — сделано. На другой день с утра укатила. На заводской-то тройке ведь недалеко. Узнала, какой самый надежный мастер, — и к нему. Мастер старый-престарый, а по своему делу до́ка. Оглядел шкатулку, спрашивает, у кого куплено. Барыня рассказала, что знала. Оглядел еще раз мастер шкатулку, а на камни и не взглянул даже:
— Не возьмусь, — говорит, — что хошь давайте. — Не здешних это мастеров работа. Нам несподручно с ними тягаться.
Барыня, конечно, не поняла, в чем тут закорючка, фыркнула и побежала к другим мастерам. Только все как сговорились: оглядят шкатулку, полюбуются, а на камни не смотрят и от работы наотрез отказываются. Барыня тогда на хитрости пошла, говорит, что эту шкатулку из Сам-Петербурху привезла. Там всё и делали. Ну, мастер, которому она это плела, только рассмеялся.
— Знаю, — говорит, — в каком месте шкатулка делана, и про мастера много наслышан. Тягаться с ним всем нашим не по плечу. На одного кого тот мастер подгоняет, другому не подойдет, что хошь делай.
Барыня и тут не поняла всего-то, только то и уразумела — неладно дело, боятся кого-то мастера. Припомнила, что старая хозяйка сказывала, будто дочь любила эти уборы на себя надевать.
«Не по этой ли зеленоглазой подгонялись? Вот беда-то!»
Потом опять переводит в уме:
«Да мне-то что! Продам какой ни есть богатой дуре. Пущай мается, а денежки у меня будут!» С этим и уехала в Полевую.
Приехала, а там новость: весточку получили — старый барин приказал долго жить. Хитренько с Паротей-то он устроил, а смерть его перехитрила — взяла и стукнула. Сына так и не успел женить, и он теперь полным хозяином стал. Через малое время паротина жена получила писемышко. Так и так, моя любезная, по вешней воде приеду на заводах показаться и тебя увезу, а музыканта твоего куда-нибудь законопатим. Паротя про это как-то узнал, шум-крик поднял. Обидно, вишь, ему перед народом-то. Как-никак приказчик, а тут вон что — жену отбирают. Сильно выпивать стал. Со служащими, конечно. Они рады стараться на даровщинку-то. Вот раз пировали. Кто-то из этих запивох и похвастай:
— Выросла-де у нас в заводе красавица, другую такую не скоро сыщешь.
Паротя и спрашивает:
— Чья такая? В котором месте живет?
Ну, ему рассказали, и про шкатулку помянули — в этой-де семье ваша жена шкатулку покупала. Паротя и говорит:
— Поглядеть бы, — а у запивох и заделье нашлось.
— Хоть сейчас пойдем — освидетельствовать, ладно ли они новую избу поставили. Семья хоть из вольных, а на заводской земле живут. В случае чего и прижать можно.
Пошли двое ли, трое с этим Паротей. Цепь притащили, давай промер делать, не зарезалась ли Настасья в чужую усадьбу, выходят ли вершки меж столбами. Подыскиваются, однем словом. Потом заходят в избу, а Танюшка как раз одна была. Глянул на нее Паротя и слова потерял. Ну, ни в каких землях такой красоты не видывал. Стоит как дурак, а она сидит — помалкивает, будто ее дело не касается. Потом отошел малость Паротя, стал спрашивать:
— Что поделываете?
Танюшка говорит:
— По заказу шью, — и работу свою показала.
— Мне, — говорит Паротя, — можно заказ сделать?
— Отчего же нет, коли в цене сойдемся.
— Можете, — спрашивает опять Паротя, — мне с себя патрет шелками вышить?
Танюшка потихоньку на пуговку поглядела, а там зеленоглазая ей знак подает — бери заказ! — и на себя пальцем указывает. Танюшка и отвечает:
— Свой патрет не буду, а есть у меня на примете женщина одна в дорогих каменьях, в царицыном платье, эту вышить могу. Только недешево будет стоить такая работа.
— Об этом, — говорит, — не сумлевайтесь, хоть сто, хоть двести рублей заплачу, лишь бы сходственность с вами была.
— В лице, — отвечает, — сходственность будет, а одежа другая.
Срядились за сто рублей. Танюшка и срок назначила — через месяц. Только Паротя нет-нет и забежит, будто о заказе узнать, а у самого вовсе не то на уме. Тоже обахмурило его, а Танюшка ровно и вовсе не замечает. Скажет два-три слова, и весь разговор. Запивохи-то Паротины подсмеиваться над ним стали:
— Тут-де не отломится. Зря сапоги треплешь!
Ну вот, вышила Танюшка тот патрет. Глядит Паротя — фу ты, боже мой! да ведь это она самая и есть, одежой да каменьями изукрашенная! Подает, конечно, три сотенных билета, только Танюшка два-то не взяла.
— Не привышны, — говорит, — мы подарки-то принимать. Трудами кормимся.
Прибежал Паротя домой, любуется на патрет, а от жены впотай держит. Пировать меньше стал, в заводское дело вникать мало-мало начал.
Весной приехал на заводы молодой барин. В Полевую прикатил. Народ согнали, молебен отслужили, и потом в господском доме тонцы-звонцы пошли. Народу тоже две бочки вина выкатили — помянуть старого, проздравить нового барина. Затравку, значит, сделали. На это все Турчаниновы мастера были. Как зальешь господскую чарку десятком своих, так и нивесть какой праздник покажется, а на поверку выйдет — последние копейки умыл и вовсе ни к чему. На другой день народ на работу, а в господском дому опять пировля. Да так и пошло. Поспят сколько да опять за гулянку. Ну, там, на лодках катаются, на лошадях в лес ездят, на музыках бренчат, да мало ли. А Паротя все время пьяной. Нарочно к нему барин самых залихватских питухов поставил — накачивай-де до отказу! Ну, те и стараются новому барину подслужиться.
Паротя хоть пьяной, а чует, к чему дело клонится. Ему перед гостями неловко. Он и говорит за столом, при всех:
— Это мне безо внимания, что барин Турчанинов хочет у меня жену увезти. Пущай повезет! Мне такую не надо. У меня вот кто есть! — Да и достает из кармана тот шелковый патрет. Все так и ахнули, а Паротина баба и рот закрыть не может. Барин тоже въелся глазами-то. Любопытно ему стало.
— Кто такая? — спрашивает.
Паротя, знай, похохатывает:
— Полон стол золота насыпь — и то не скажу!
Ну, а как не скажешь, коли заводские сразу Танюшку признали. Один перед другим стараются — барину объясняют. Паротина баба руками-ногами:
— Что вы! Что вы! Околесицу этаку городите! Откуда у заводской девки платье такое да еще каменья дорогие? А патрет этот муж из-за границы привез. Еще до свадьбы мне показывал. Теперь с пьяных-то глаз, мало ли что сплетет. Себя скоро помнить не будет. Ишь, опух весь!
Паротя видит, что жене шибко не мило, он и давай чехвостить:
— Страмина ты, страмина! Что ты косоплетки плетешь, барину в глаза песком бросашь! Какой я тебе патрет показывал? Здесь мне его шили. Та самая девушка, про которую они вон говорят. Насчет платья — лгать не буду — не знаю. Платье какое хошь надеть можно. А камни у них были. Теперь у тебя в шкапу заперты. Сама же их купила за две тысячи да надеть не смогла. Видно, не подходит корове черкасско седло. Весь завод про покупку-то знает!
Барин как услышал про камни, так сейчас же:
— Ну-ко, покажи!
Он, слышь-ко, малоумненький был, мотоватый. Однем словом, наследник. К камням-то сильное пристрастие имел. Щегольнуть ему было нечем, — как говорится, ни росту, ни голосу, — так хоть каменьями. Где ни прослышит про хороший камень, сейчас купить ладится. И толк в камнях знал, даром что не шибко умный.
Паротина баба видит — делать нечего, — принесла шкатулку. Барин взглянул и сразу:
— Сколько?
Та и бухнула вовсе неслыханно. Барин рядиться. На половине сошлись, и заемную бумагу барин подписал: не было, вишь, денег-то с собой. Поставил барин перед собой шкатулку на стол, да и говорит:
— Позовите-ко эту девку, про которую разговор.
Сбегали за Танюшкой. Она ничего, сразу пошла, — думала, заказ какой большой. Приходит в комнату, а там народу полно и посредине тот самый заяц, которого она тогда видела. Перед этим зайцем шкатулка — отцово подаренье. Танюшка сразу признала барина и спрашивает:
— Зачем звали?
Барин и слова сказать не может. Уставился на нее, да и все. Потом все ж таки нашел разговор.
— Ваши камни?
— Были наши, теперь вон ихние, — и показала на Паротину жену.
— Мои теперь, — похвалился барин.
— Это дело ваше.
— А хошь, подарю обратно?
— Отдаривать нечем.
— Ну, а примерить на себя ты их можешь? Взглянуть мне охота, как эти камни на человеке придутся.
— Это, — отвечает Танюшка, — можно.
Взяла шкатулку, разобрала уборы, — привычно дело, — и живо их к месту пристроила. Барин глядит и только ахает.
Ах да ах, больше и речей нет. Танюшка постояла в уборе-то и спрашивает:
— Поглядели? Будет? Мне ведь не от простой поры тут стоять — работа есть.
Барин тут при всех и говорит:
— Выходи за меня замуж. Согласна?
Танюшка только усмехнулась:
— Не под стать бы ровно барину такое говорить. — Сняла уборы и ушла.
Только барин не отстает. На другой день свататься приехал. Просит-молит Настасью-то: отдай за меня дочь.
Настасья говорит:
— Я с нее воли не снимаю, как она хочет, а по-моему — будто не подходит.
Танюшка слушала-слушала, да и молвит:
— Вот что, не то… Слышала я, будто в царском дворце есть палата, малахитом тятиной добычи обделанная. Вот если ты в этой палате царицу мне покажешь — тогда выйду за тебя замуж.
Барин, конечно, на все согласен. Сейчас же в Сам-Петербурх стал собираться и Танюшку с собой зовет — лошадей, говорит, тебе предоставлю. А Танюшка отвечает:
— По нашему-то обряду и к венцу на жениховых лошадях невеста не ездит, а мы ведь еще никто. Потом уж об этом говорить будем, как ты свое обещанье выполнишь.
— Когда же, — спрашивает, — ты в Сам-Петербурхе будешь?
— К Покрову, — говорит, — непременно буду. Об этом не сумлевайся, а пока уезжай отсюда.
Барин уехал, Паротину жену, конечно, не взял, не глядит даже на нее. Как домой в Сам-Петербурх-от приехал, давай по всему городу славить про камни и про свою невесту. Многим шкатулку-то показывал. Ну, сильно залюбопытствовали невесту посмотреть. К осеням-то барин квартиру Танюшке приготовил, платьев всяких навез, обую, а она весточку и прислала, — тут она, живет у такой-то вдовы на самой окраине. Барин, конечно, сейчас же туда:
— Что вы! Мысленное ли дело тут проживать? Квартерка приготовлена, первый сорт!
А Танюшка отвечает:
— Мне и тут хорошо.
Слух про каменья да турчаниновску невесту и до царицы дошел. Она и говорит:
— Пущай-ка Турчанинов покажет мне свою невесту. Что-то много про нее врут.
Барин к Танюшке, — дескать, приготовиться надо. Наряд такой сшить, чтобы во дворец можно, камни из малахитовой шкатулки надеть. Танюшка отвечает:
— О наряде не твоя печаль, а камни возьму на подержанье. Да, смотри, не вздумай за мной лошадей посылать. На своих буду. Жди только меня у крылечка, во дворце-то.
Барин думает, — откуда у ней лошади? где платье дворцовское? — а спрашивать все ж таки не насмелился.
Вот стали во дворец собираться. На лошадях все подъезжают, в шелках да бархатах. Турчанинов-барин спозаранку у крыльца вертится — невесту свою поджидает. Другим тоже любопытно на нее поглядеть, — тут же остановились. А Танюшка надела каменья, подвязалась платочком по-заводски, шубейку свою накинула и идет себе потихонечку. Ну, народ — откуда такая? — валом за ней валит. Подошла Танюшка ко дворцу, а царские лакеи не пущают — не дозволено, говорят, заводским-то. Турчанинов-барин издаля Танюшку завидел, только ему перед своими-то стыдно, что его невеста пешком, да еще в экой шубейке, он взял, да и спрятался. Танюшка тут распахнула шубейку, лакеи глядят — платье-то! У царицы такого нет! — сразу пустили. А как Танюшка сняла платочек да шубейку, все кругом сахнули:
— Чья такая? Каких земель царица?
А барин Турчанинов тут как тут.
— Моя невеста, — говорит.
Танюшка эдак строго на него поглядела:
— Это еще вперед поглядим! Пошто ты меня обманул — у крылечка не дождался?
Барин туда-сюда, — оплошка-де вышла. Извини, пожалуйста.
Пошли они в палаты царские, куда было велено. Глядит Танюшка — не то место. Еще строже спросила Турчанинова барина:
— Это еще что за обман? Сказано тебе, что в той палате, которая малахитом тятиной работы обделана! — И пошла по дворцу-то, как дома. А сенаторы, генералы и протчи за ней.
— Что, дескать, такое? Видно, туда велено.
Народу набралось полным-полно, и все глаз с Танюшки не сводят, а она стала к самой малахитовой стенке и ждет. Турчанинов, конечно, тут же. Лопочет ей, что ведь неладно, не в этом помещенье царица дожидаться велела. А Танюшка стоит спокойнешенько, хоть бы бровью повела, будто барина вовсе нет.
Царица вышла в комнату-то, куда назначено. Глядит — никого нет. Царицыны наушницы и доводят — турчаниновска невеста всех в малахитову палату увела. Царица поворчала, конечно, — что за самовольство! Запотопывала ногами-то. Осердилась, значит, маленько. Приходит царица в палату малахитову. Все ей кланяются, а Танюшка стоит — не шевельнется.
Царица и кричит:
— Ну-ко, показывайте мне эту самовольницу — турчаниновску невесту!
Танюшка это услышала, вовсе брови свела, говорит барину:
— Это еще что придумал! Я велела мне царицу показать, а ты подстроил меня ей показывать. Опять обман! Видеть тебя больше не хочу! Получи свои камни!
С этим словом прислонилась к стенке малахитовой и растаяла. Только и осталось, что на стенке камни сверкают, как прилипли к тем местам, где голова была, шея, руки.
Все, конечно, перепугались, а царица в беспамятстве на пол брякнула. Засуетились, поднимать стали. Потом, когда суматоха поулеглась, приятели и говорят Турчанинову:
— Подбери хоть камни-то! Живо разворуют. Не како-нибудь место — дворец! Тут цену знают!
Турчанинов и давай хватать те каменья. Какой схватит, тот у него и свернется в капельку. Ина капля чистая, как вот слеза, ина желтая, а то опять, как кровь, густая. Так ничего и не собрал. Глядит — на полу пуговка валяется. Из бутылочного стекла, на простую грань. Вовсе пустяковая. С горя он и схватил ее. Только взял в руку, а в этой пуговке, как в большом зеркале, зеленоглазая красавица в малахитовом платье, вся дорогими каменьями изукрашенная, хохочет-заливается:
— Эх ты, полоумный косой заяц! Тебе ли меня взять! Разве ты мне пара?
Барин после этого и последний умишко потерял, а пуговку не бросил. Нет-нет и поглядит в нее, а там все одно: стоит зеленоглазая, хохочет и обидные слова говорит. С горя барин давай-ко пировать, долгов наделал, чуть при нем наши-то заводы с молотка не пошли.
А Паротя, как его отстранили, по кабакам пошел. До ремков пропился, а патрет тот шелковый берег. Куда этот патрет потом девался — никому не известно.
Не поживилась и паротина жена; поди-ко, получи по заемной бумаге, коли все железо и медь заложены!
Про Танюшку с той поры в нашем заводе ни слуху ни духу. Как не было.
Погоревала, конечно, Настасья, да тоже не от силы. Танюшка-то, вишь, хоть радетельница для семьи была, а все Настасье как чужая.
И то сказать, парни у Настасьи к тому времени выросли. Женились оба. Внучата пошли. Народу в избе густенько стало. Знай поворачивайся — за тем догляди, другому подай… До скуки ли тут!
Холостяжник — тот дольше не забывал. Все под Настасьиными окошками топтался. Поджидали, не появится ли у окошечка Танюшка, да так и не дождались.
Потом, конечно, оженились, а нет-нет и помянут:
— Вот-де какая у нас в заводе девка была! Другой такой в жизни не увидишь.
Да еще после этого случаю заметочка вышла. Сказывали, будто Хозяйка Медной горы двоиться стала: сразу двух девиц в малахитовых платьях люди видали.
П. П. Бажов, 1938
5. Бажов П.П. Медной горы хозяйка
МЕДНОЙ ГОРЫ ХОЗЯЙКА. П. П. БАЖОВ
Пошли раз двое наших заводских траву смотреть.
А покосы у них дальние были. За Северушкой где-то.
День праздничный был, и жарко — страсть. Парун чистый. А оба в горе робили, на Гумёшках то есть. Малахит-руду добывали, лазоревку тоже. Ну, когда и королек с витком попадали и там протча, что подойдет.
Один-то молодой парень был, неженатик, а уж в глазах зеленью отливать стало. Другой постарше. Этот и вовсе изробленный. В глазах зелено, и щеки будто зеленью подернулись. И кашлял завсе тот человек.
В лесу-то хорошо. Пташки поют-радуются, от земли воспарение, дух легкий. Их, слышь-ко, и разморило. Дошли до Красногорского рудника. Там тогда железну руду добывали. Легли, значит, наши-то на травку под рябиной да сразу и уснули. Только вдруг молодой, ровно его кто под бок толкнул, проснулся. Глядит, а перед ним на грудке руды у большого камня женщина какая-то сидит. Спиной к парню, а по косе видать — девка. Коса ссиза-черная и не как у наших девок болтается, а ровно прилипла к спине. На конце ленты не то красные, не то зеленые. Сквозь светеют и тонко этак позванивают, будто листовая медь.
Дивится парень на косу, а сам дальше примечает. Девка небольшого росту, из себя ладная и уж такое крутое колесо — на месте не посидит. Вперед наклонится, ровно у себя под ногами ищет, то опять назад откинется, на тот бок изогнется, на другой. На ноги вскочит, руками замашет, потом опять наклонится. Однем словом, артуть-девка. Слыхать — лопочет что-то, а по-каковски — неизвестно, и с кем говорит — не видно. Только смешком все. Весело, видно, ей.
Парень хотел было слово молвить, вдруг его как по затылку стукнуло.
«Мать ты моя, да ведь это сама Хозяйка! Ее одежа-то. Как я сразу не приметил? Отвела глаза косой-то своей».
А одежа и верно такая, что другой на свете не найдешь. Из шелкового, слышь-ко, малахиту платье. Сорт такой бывает. Камень, а на глаз как шелк, хоть рукой погладить.
«Вот, — думает парень, — беда! Как бы только ноги унести, пока не заметила». От стариков он, вишь, слыхал, что Хозяйка эта — малахитница-то — любит над человеком мудровать.
Только подумал так-то, она и оглянулась. Весело на парня глядит, зубы скалит и говорит шуткой:
— Ты что же, Степан Петрович, на девичью красу даром глаза пялишь? За погляд-то ведь деньги берут. Иди-ка поближе. Поговорим маленько.
Парень испужался, конечно, а виду не оказывает. Крепится. Хоть она и тайна сила, а все-таки девка. Ну, а он парень — ему, значит, и стыдно перед девкой обробеть.
— Некогда, — говорит, — мне разговаривать. Без того проспали, а траву смотреть пошли.
Она посмеивается, а потом говорит:
— Будет тебе наигрыш вести. Иди, говорю, дело есть.
Ну, парень видит — делать нечего. Пошел к ней, а она рукой маячит, обойди-де руду-то с другой стороны. Он и обошел и видит — ящерок тут несчисленно. И всё, слышь-ко, разные. Одни, например, зеленые, другие голубые, которые в синь впадают, а то как глина либо песок с золотыми крапинками. Одни, как стекло либо слюда, блестят, а другие, как трава поблеклая, а которые опять узорами изукрашены.
Девка смеется.
— Не расступи, — говорит, — мое войско, Степан Петрович. Ты вон какой большой да тяжелый, а они у меня маленьки.
А сама ладошками схлопала, ящерки и разбежались, дорогу дали.
Вот подошел парень поближе, остановился, а она опять в ладошки схлопала, да и говорит, и все смехом:
— Теперь тебе ступить некуда. Раздавишь мою слугу — беда будет.
Он поглядел под ноги, а там и земли незнатко. Все ящерки-то сбились в одно место, — как пол узорчатый под ногами стал. Глядит Степан — батюшки, да ведь это руда медная! Всяких сортов и хорошо отшлифована. И слюдка тут же, и обманка, и блёски всякие, кои на малахит походят.
— Ну, теперь признал меня, Степанушко? — спрашивает малахитница, а сама хохочет-заливается.
Потом, мало погодя, и говорит:
— Ты не пужайся. Худого тебе не сделаю.
Парню забедно стало, что девка над ним насмехается да еще слова такие говорит. Сильно он осердился, закричал даже:
— Кого мне бояться, коли я в горе роблю!
— Вот и ладно, — отвечает малахитница. — Мне как раз такого и надо, который никого не боится. Завтра, как в гору спускаться, будет тут ваш заводской приказчик, ты ему и скажи да, смотри, не забудь слов-то:
«Хозяйка, мол, Медной горы заказывала тебе, душному козлу, чтобы ты с Красногорского рудника убирался. Ежели еще будешь эту мою железную шапку ломать, так я тебе всю медь в Гумешках туда спущу, что никак ее не добыть».
Сказала это и прищурилась:
— Понял ли, Степанушко? В горе, говоришь, робишь, никого не боишься? Вот и скажи приказчику, как я велела, а теперь иди да тому, который с тобой, ничего, смотри, не говори. Изробленный он человек, что его тревожить да в это дело впутывать. И так вон лазоревке сказала, чтоб она ему маленько пособила.
И опять похлопала в ладошки, и все ящерки разбежались.
Сама тоже на ноги вскочила, прихватилась рукой за камень, подскочила и тоже, как ящерка, побежала по камню-то. Вместо рук-ног — лапы у ее зеленые стали, хвост высунулся, по хребтине до половины черная полоска, а голова человечья. Забежала на вершину, оглянулась и говорит:
— Не забудь, Степанушко, как я говорила. Велела, мол, тебе, — душному козлу, — с Красногорки убираться. Сделаешь по-моему, замуж за тебя выйду!
Парень даже сплюнул вгорячах:
— Тьфу ты, погань какая! Чтоб я на ящерке женился.
А она видит, как он плюется, и хохочет.
— Ладно, — кричит, — потом поговорим. Может, и надумаешь?
И сейчас же за горку, только хвост зеленый мелькнул.
Парень остался один. На руднике тихо. Слышно только, как за грудкой руды другой-то похрапывает. Разбудил его. Сходили на свои покосы, посмотрели траву, к вечеру домой воротились, а у Степана одно на уме: как ему быть? Сказать приказчику такие слова — дело не малое, а он еще, — и верно, — душной был — гниль какая-то в нутре у него, сказывают, была. Не сказать — тоже боязно. Она ведь Хозяйка. Какую хошь руду может в обманку перекинуть. Выполняй тогда уроки-то. А хуже того, стыдно перед девкой хвастуном себя оказать.
Думал-думал, насмелился:
— Была не была, сделаю, как она велела.
На другой день поутру, как у спускового барабана народ собрался, приказчик заводской подошел. Все, конечно, шапки сняли, молчат, а Степан подходит и говорит:
— Видел я вечор Хозяйку Медной горы, и заказывала она тебе сказать. Велит она тебе, душному козлу, с Красногорки убираться. Ежели ты ей эту железную шапку спортишь, так она всю медь на Гумешках туда спустит, что никому не добыть.
У приказчика даже усы затряслись.
— Ты что это? Пьяный али ума решился? Какая хозяйка? Кому ты такие слова говоришь? Да я тебя в горе сгною!
— Воля твоя, — говорит Степан, — а только так мне велено.
— Выпороть его, — кричит приказчик, — да спустить в гору и в забое приковать! А чтобы не издох, давать ему собачьей овсянки и уроки спрашивать без поблажки. Чуть что — драть нещадно!
Ну, конечно, выпороли парня и в гору. Надзиратель рудничный, — тоже собака не последняя, — отвел ему забой — хуже некуда. И мокро тут, и руды доброй нет, давно бы бросить надо. Тут и приковали Степана на длинную цепь, чтобы, значит, работать можно было. Известно, какое время было, — крепость. Всяко гадились над человеком. Надзиратель еще и говорит:
— Прохладись тут маленько. А уроку с тебя будет чистым малахитом столько-то, — и назначил вовсе несообразно.
Делать нечего. Как отошел надзиратель, стал Степан каелкой помахивать, а парень все-таки проворный был. Глядит, — ладно ведь. Так малахит и сыплется, ровно кто его руками подбрасывает. И вода куда-то ушла из забоя. Сухо стало.
«Вот, — думает, — хорошо-то. Вспомнила, видно, обо мне Хозяйка».
Только подумал, вдруг звосияло. Глядит, а Хозяйка тут, перед ним.
— Молодец, — говорит, — Степан Петрович. Можно чести приписать. Не испужался душного козла. Хорошо ему сказал. Пойдем, видно, мое приданое смотреть. Я тоже от своего слова не отпорна.
А сама принахмурилась, ровно ей это нехорошо. Схлопала в ладошки, ящерки набежали, со Степана цепь сняли, а Хозяйка им распорядок дала:
— Урок тут наломайте вдвое. И чтобы наотбор малахит был, шелкового сорту. — Потом Степану говорит: — Ну, женишок, пойдем смотреть мое приданое.
И вот пошли. Она впереди, Степан за ней. Куда она идет — все ей открыто. Как комнаты большие под землей стали, а стены у них разные. То все зеленые, то желтые с золотыми крапинками. На которых опять цветы медные. Синие тоже есть, лазоревые. Однем словом, изукрашено, что и сказать нельзя. И платье на ней — на Хозяйке-то — меняется. То оно блестит, будто стекло, то вдруг полиняет, а то алмазной осыпью засверкает, либо скрасна медным станет, потом опять шелком зеленым отливает. Идут-идут, остановилась она.
— Дальше, — говорит, — на многие версты желтяки да серяки с крапинкой пойдут. Что их смотреть? А это вот под самой Красногоркой мы. Тут у меня после Гумешек самое дорогое место.
И видит Степан огромадную комнату, а в ней постели, столы, табуреточки — всё из корольковой меди. Стены малахитовые с алмазом, а потолок темно-красный под чернетью, а на ем цветки медны.
— Посидим, — говорит, — тут, поговорим.
Сели это они на табуреточки, малахитница и спрашивает:
— Видал мое приданое?
— Видал, — говорит Степан.
— Ну, как теперь насчет женитьбы?
А Степан и не знает, как отвечать. У него, слышь-ко, невеста была. Хорошая девушка, сиротка одна. Ну конечно, против малахитницы где же ей красотой равняться! Простой человек, обыкновенный. Помялся-помялся Степан, да и говорит:
— Приданое у тебя царям впору, а я человек рабочий, простой.
— Ты, — говорит, — друг любезный, не вихляйся. Прямо говори, берешь меня замуж али нет? — И сама вовсе принахмурилась.
Ну, Степан и ответил напрямки:
— Не могу, потому другой обещался.
Молвил так-то и думает: огневается теперь. А она вроде обрадовалась.
— Молодец, — говорит, — Степанушко. За приказчика тебя похвалила, а за это вдвое похвалю. Не обзарился ты на мои богатства, не променял свою Настеньку на каменну девку. — А у парня верно невесту-то Настей звали. — Вот, — говорит, — тебе подарочек для твоей невесты, — и подает большую малахитову шкатулку.
А там, слышь-ко, всякий женский прибор. Серьги, кольца и протча, что даже не у всякой богатой невесты бывает.
— Как же, — спрашивает парень, — я с эким местом наверх подымусь?
— Об этом не печалься. Все будет устроено, и от приказчика тебя вызволю, и жить безбедно будешь со своей молодой женой, только вот тебе мой сказ — обо мне, чур, потом не вспоминай. Это третье тебе мое испытание будет. А теперь давай поешь маленько.
Схлопала опять в ладошки, набежали ящерки — полон стол установили. Накормила она его щами хорошими, пирогом рыбным, бараниной, кашей и протчим, что по русскому обряду полагается. Потом и говорит:
— Ну, прощай, Степан Петрович, смотри не вспоминай обо мне. — А у самой слезы. Она это руку подставила, а слезы кап-кап и на руке зернышками застывают. Полнехонька горсть. — На-ка вот, возьми на разживу. Большие деньги за эти камешки люди дают. Богатый будешь, — и подает ему.
Камешки холодные, а рука, слышь-ко, горячая, как есть живая, и трясется маленько.
Степан принял камешки, поклонился низко и спрашивает:
— Куда мне идти? — А сам тоже невеселый стал. Она указала перстом, перед ним и открылся ход, как штольня, и светло в ней, как днем. Пошел Степан по этой штольне — опять всяких земельных богатств нагляделся и пришел как раз к своему забою. Пришел, штольня и закрылась, и все стало по-старому. Ящерка прибежала, цепь ему на ногу приладила, а шкатулка с подарками вдруг маленькая стала, Степан и спрятал ее за пазуху. Вскоре надзиратель рудничный подошел. Посмеяться ладил, а видит — у Степана поверх урока наворочено, и малахит отбор, сорт-сортом. «Что, — думает, — за штука? Откуда это?» Полез в забой, осмотрел все да и говорит:
— В эком-то забое всяк сколь хошь наломает. — И повел Степана в другой забой, а в этот своего племянника поставил.
На другой день стал Степан работать, а малахит так и отлетает, да еще королек с витком попадать стали, а у того — у племянника-то — скажи на милость, ничего доброго нет, все обальчик да обманка идет. Тут надзиратель и сметил дело. Побежал к приказчику. Так и так.
— Не иначе, — говорит, — Степан душу нечистой силе продал.
Приказчик на это и говорит:
— Это его дело, кому он душу продал, а нам свою выгоду поиметь надо. Пообещай ему, что на волю выпустим, пущай только малахитовую глыбу во сто пуд найдет.
Велел все-таки приказчик расковать Степана и приказ такой дал — на Красногорке работы прекратить.
— Кто, — говорит, — его знает? Может, этот дурак от ума тогда говорил. Да и руда там с медью пошла, только чугуну порча.
Надзиратель объявил Степану, что от его требуется, а тот ответил:
— Кто от воли откажется? Буду стараться, а найду ли — это уж как счастье мое подойдет.
Вскорости нашел им Степан глыбу такую. Выволокли ее наверх. Гордятся, — вот-де мы какие, а Степану воли не дали.
О глыбе написали барину, тот и приехал из самого, слышь-ко, Сам-Петербурху. Узнал, как дело было, и зовет к себе Степана.
— Вот что, — говорит, — даю тебе свое дворянское слово отпустить тебя на волю, ежели ты мне найдешь такие малахитовые камни, чтобы, значит, из их вырубить столбы не меньше пяти сажен долиной.
Степан отвечает:
— Меня уж раз оплели. Ученый я ноне. Сперва вольную пиши, потом стараться буду, а что выйдет — увидим.
Барин, конечно, закричал, ногами затопал, а Степан одно свое:
— Чуть было не забыл — невесте моей тоже вольную пропиши, а то что это за порядок — сам буду вольный, а жена в крепости.
Барин видит — парень не мягкий. Написал ему актовую бумагу.
— На, — говорит, — только старайся смотри.
А Степан все свое.
— Это уж как счастье поищет.
Нашел, конечно, Степан. Что ему, коли он все нутро горы вызнал и сама Хозяйка ему пособляла. Вырубили из этой малахитаны столбы, какие им надо, выволокли наверх, и барин их на приклад в самую главную церкву в Сам-Петербурхе отправил. А глыба та, которую Степан сперва нашел, и посейчас в нашем городу, говорят. Как редкость ее берегут.
С той поры Степан на волю вышел, а в Гумешках после того все богатство ровно пропало. Много-много лазоревка идет, а больше обманка. О корольке с витком и слыхом не слыхать стало, и малахит ушел, вода долить стала. Так с той поры Гумешки на убыль и пошли, а потом их и вовсе затопило. Говорили, что это Хозяйка огневалась за столбы-то, что их в церкву поставили. А ей это вовсе ни к чему.
Степан тоже счастья в жизни не поимел. Женился он, семью завел, дом обстроил, все как следует. Жить бы ровно да радоваться, а он невеселый стал и здоровьем хезнул. Так на глазах и таял.
Хворый-то придумал дробовичок завести и на охоту повадился. И все, слышь-ко, к Красногорскому руднику ходит, а добычи домой не носит. В осенях ушел так-то да и с концом. Вот его нет, вот его нет… Куда девался? Сбили, конечно, народ, давай искать. А он, слышь-ко, на руднике у высокого камня мертвый лежит, ровно улыбается, и ружьишечко у него тут же в сторонке валяется, не стрелено из него. Которые люди первые набежали, сказывали, что около покойника ящерку зеленую видели, да такую большую, каких и вовсе в наших местах не бывало. Сидит будто над покойником, голову подняла, а слезы у ей так и каплют. Как люди ближе подбежали — она на камень, только ее и видели. А как покойника домой привезли да обмывать стали — глядят: у него одна рука накрепко зажата, и чуть видно из нее зернышки зелененькие. Полнехонька горсть. Тут один знающий случился, поглядел сбоку на зернышки и говорит:
— Да ведь это медный изумруд! Редкостный камень, дорогой. Целое богатство тебе, Настасья, осталось. Откуда только у него эти камешки?
Настасья — жена-то его — объясняет, что никогда покойник ни про какие такие камешки не говаривал. Шкатулку вот дарил ей, когда еще женихом был. Большую шкатулку, малахитову. Много в ей добренького, а таких камешков нету. Не видывала.
Стали те камешки из мертвой Степановой руки доставать, а они и рассыпались в пыль. Так и не дознались в ту пору, откуда они у Степана были. Копались потом на Красногорке. Ну, руда и руда, бурая с медным блеском. Потом уж кто-то вызнал, что это у Степана слезы Хозяйки Медной горы были. Не продал их, слышь-ко, никому, тайно от своих сохранял, с ними и смерть принял. А?
Вот она, значит, какая Медной горы Хозяйка!
Худому с ней встретиться — горе, и доброму — радости мало.
П. П. Бажов, 1936
6. Волков А. "Волшебник Изумрудного города"
Ураган
Среди обширной канзасской степи жила девочка Элли. Ее отец, фермер Джон, целый день работал в поле, а мать Анна хлопотала по хозяйству.
Жили они в небольшом фургоне, снятом с колес и поставленном на землю.
Обстановка домика была бедна: железная печка, шкаф, стол, три стула и две кровати. Рядом с домом, у самой двери, был выкопан «ураганный погреб». В погребе семья отсиживалась во время бурь.
Степные ураганы не раз опрокидывали легонькое жилище фермера Джона. Но Джон не унывал: когда утихал ветер, он поднимал домик, печка и кровати становились на места. Элли собирала с пола оловянные тарелки и кружки – и все было в порядке до нового урагана.
До самого горизонта расстилалась ровная, как скатерть, степь. Кое-где виднелись такие же бедные домики, как и домик Джона. Вокруг них были пашни, где фермеры сеяли пшеницу и кукурузу.
Элли хорошо знала всех соседей на три мили кругом. На западе проживал дядя Роберт с сыновьями Бобом и Диком. В домике на севере жил старый Рольф. Он делал детям чудесные ветряные мельницы.
Широкая степь не казалась Элли унылой: ведь это была ее родина. Элли не знала никаких других мест. Горы и леса она видела только на картинках, и они не манили ее, быть может, потому, что в дешевых Эллиных книжках были нарисованы плохо.
Когда Элли становилось скучно, она звала веселого песика Тотошку и отправлялась навестить Дика и Боба или шла к дедушке Рольфу, от которого никогда не возвращалась без самодельной игрушки.
Тотошка с лаем прыгал по степи, гонялся за воронами и был бесконечно доволен собой и своей маленькой хозяйкой. У Тотошки была черная шерсть, остренькие ушки и маленькие, забавно блестевшие глазки. Тотошка никогда не скучал и мог играть с девочкой целый день.
У Элли было много забот. Она помогала матери по хозяйству, а отец учил ее читать, писать и считать, потому что школа находилась далеко, а девочка была еще слишком мала, чтобы ходить туда каждый день.
Однажды летним вечером Элли сидела на крыльце и читала вслух сказку. Анна стирала белье.
– «И тогда сильный, могучий богатырь Арнаульф увидел волшебника ростом с башню, – нараспев читала Элли, водя пальцем по строкам. – Изо рта и ноздрей волшебника вылетал огонь…» Мамочка, – спросила Элли, отрываясь от книги, – а теперь волшебники есть?
– Нет, моя дорогая. Жили волшебники в прежние времена, а потом перевелись. Да и к чему они. И без них хлопот довольно…
Элли смешно наморщила нос:
– А все-таки без волшебников скучно. Если бы я вдруг сделалась королевой, то обязательно приказала бы, чтобы в каждом городе и в каждой деревне был волшебник. И чтобы он совершал для детей всякие чудеса.
– Какие же, например? – улыбаясь, спросила мать.
– Ну, какие… Вот чтобы каждая девочка и каждый мальчик, просыпаясь утром, находили под подушкой большой сладкий пряник… Или… – Элли грустно посмотрела на свои грубые поношенные башмаки. – Или чтобы у всех детей были хорошенькие легкие туфельки.
– Туфельки ты и без волшебника получишь, – возразила Анна. – Поедешь с папой на ярмарку, он и купит…
Пока девочка разговаривала с матерью, погода начала портиться.
* * *
Как раз в это самое время в далекой стране, за высокими горами колдовала в угрюмой глубокой пещере злая волшебница Гингема.
Страшно было в пещере Гингемы. Там под потолком висело чучело огромного крокодила. На высоких шестах сидели большие филины, с потолка свешивались связки сушеных мышей, привязанных к веревочкам за хвостики, как луковки. Длинная толстая змея обвилась вокруг столба и равномерно качала плоской головой. И много еще всяких странных и жутких вещей было в обширной пещере Гингемы.
В большом закопченном котле Гингема варила волшебное зелье. Она бросала в котел мышей, отрывая одну за другой от связки.
– Куда это подевались змеиные головы? – злобно ворчала Гингема. – Не все же я съела за завтраком!.. А, вот они, в зеленом горшке! Ну, теперь зелье выйдет на славу!.. Достанется же этим проклятым людям! Ненавижу я их! Расселились по свету! Осушили болота! Вырубили чащи!.. Всех лягушек вывели!.. Змей уничтожают! Ничего вкусного на земле не осталось! Разве только червячком полакомишься!..
Гингема погрозила в пространство костлявым иссохшим кулаком и стала бросать в котел змеиные головы.
– Ух, ненавистные люди! Вот и готово мое зелье на погибель вам! Окроплю леса и поля, и поднимется буря, какой еще на свете не бывало!
Гингема подхватила котел за «ушки» и с усилием вытащила его из пещеры. Она опустила в котел большое помело и стала расплескивать вокруг свое варево.
– Разразись, ураган! Лети по свету, как бешеный зверь! Рви, ломай, круши! Опрокидывай дома, поднимай на воздух! Сусака, масака, лэма, рэма, гэма!.. Буридо, фуридо, сама, пэма, фэма!..
Она выкрикивала волшебные слова и брызгала вокруг растрепанным помелом, и небо омрачалось, собирались тучи, начинал свистеть ветер. Вдали блестели молнии…
– Круши, рви, ломай! – дико вопила колдунья. – Сусака, масака, буридо, фуридо! Уничтожай, ураган, людей, животных, птиц! Только лягушечек, мышек, змеек, паучков не трогай, ураган! Пусть они по всему свету размножатся на радость мне, могучей волшебнице Гингеме! Буридо, фуридо, сусака, масака!
И вихрь завывал все сильней и сильней, сверкали молнии, оглушительно грохотал гром.
Гингема в диком восторге кружилась на месте, и ветер развевал полы ее длинной мантии…
* * *
Вызванный волшебством Гингемы ураган донесся до Канзаса и с каждой минутой приближался к домику Джона. Вдали у горизонта сгущались тучи, поблескивали молнии.
Тотошка беспокойно бегал, задрав голову, и задорно лаял на тучи, которые быстро мчались по небу.
– Ой, Тотошка, какой ты смешной, – сказала Элли. – Пугаешь тучи, а ведь сам трусишь!
Песик и в самом деле очень боялся гроз. Он их уже немало видел за свою недолгую жизнь. Анна забеспокоилась.
– Заболталась я с тобой, дочка, а ведь, смотри-ка, надвигается самый настоящий ураган…
Вот уже ясно стал слышен грозный гул ветра. Пшеница на поле прилегла к земле, и по ней, как по реке, покатились волны. Прибежал с поля взволнованный фермер Джон.
– Буря, идет страшная буря! – закричал он. – Прячьтесь скорее в погреб, а я побегу загоню скот в сарай!
Анна бросилась к погребу, откинула крышку.
– Элли, Элли! Скорей сюда! – кричала она.
Но Тотошка, перепуганный ревом бури и беспрестанными раскатами грома, убежал в домик и спрятался там под кровать, в самый дальний угол. Элли не хотела оставить своего любимца одного и бросилась за ним в фургон.
И в это время случилась удивительная вещь.
Домик повернулся два или три раза, как карусель. Он оказался в самой середине урагана. Вихрь закружил его, поднял вверх и понес по воздуху.
В дверях фургона показалась испуганная Элли с Тотошкой на руках. Что делать? Спрыгнуть на землю? Но было уже поздно: домик летел высоко над землей…
Ветер трепал волосы Анны. Она стояла возле погреба, протягивала вверх руки и отчаянно кричала. Прибежал из сарая фермер Джон и бросился к тому месту, где стоял фургон. Осиротевшие отец и мать долго смотрели в темное небо, поминутно освещаемое блеском молний…
Ураган все бушевал, и домик, покачиваясь, несся по воздуху. Тотошка, потрясенный тем, что творилось вокруг, бегал по темной комнате с испуганным лаем. Элли, растерянная, сидела на полу, схватившись руками за голову. Она чувствовала себя очень одинокой. Ветер гулял так, что оглушал ее. Ей казалось, что домик вот-вот упадет и разобьется. Но время шло, а домик все еще летел. Элли вскарабкалась на кровать и легла, прижав к себе Тотошку. Под гул ветра, плавно качавшего домик, Элли крепко заснула.
Часть первая. Дорога из жёлтого кирпича
Элли в удивительной стране жевунов
Элли проснулась оттого, что песик лизал ей лицо горячим мокрым язычком и скулил. Сначала ей показалось, что она видела удивительный сон, и Элли уже собралась рассказать о нем матери. Но, увидев опрокинутые стулья, валявшуюся на полу печку, Элли поняла, что все было наяву.
Девочка спрыгнула с постели. Домик не двигался. Солнце ярко светило в окно. Элли подбежала к двери, распахнула ее и вскрикнула от удивления.
Ураган занес домик в страну необычайной красоты. Вокруг расстилалась зеленая лужайка, по краям ее росли деревья со спелыми сочными плодами; на полянках виднелись клумбы красивых розовых, белых и голубых цветов. В воздухе порхали крошечные птицы, сверкавшие ярким оперением. На ветках деревьев сидели золотисто-зеленые и красногрудые попугаи и кричали высокими странными голосами. Невдалеке журчал прозрачный поток, в воде резвились серебристые рыбки.
Пока девочка нерешительно стояла на пороге, из-за деревьев появились самые забавные и милые человечки, каких только можно вообразить. Мужчины, одетые в голубые бархатные кафтаны и узкие панталоны, ростом были не выше Элли; на ногах у них блестели голубые ботфорты с отворотами. Но больше всего Элли понравились остроконечные шляпы: их верхушки украшали хрустальные шарики, а под широкими полями нежно звенели маленькие бубенчики.
Старая женщина в белой мантии важно выступала впереди трех мужчин; на остроконечной шляпе ее и на мантии сверкали крошечные звездочки. Седые волосы старушки падали ей на плечи.
Вдали, за плодовыми деревьями, виднелась целая толпа маленьких мужчин и женщин; они стояли, перешептываясь и переглядываясь, но не решались подойти ближе.
Подойдя к девочке, эти робкие маленькие люди приветливо и несколько боязливо улыбнулись Элли, но старушка смотрела на нее с явным недоумением. Трое мужчин дружно двинулись вперед и разом сняли шляпы. «Дзинь-дзинь-дзинь!» – прозвенели бубенчики. Элли заметила, что челюсти маленьких мужчин беспрестанно двигались, как будто что-то пережевывая.
Старушка обратилась к Элли:
– Скажи мне, как ты очутилась в стране Жевунов, милое дитя?
– Меня принес сюда ураган в этом домике, – робко ответила Элли.
– Странно, очень странно! – покачала головой старушка. – Сейчас ты поймешь мое недоумение. Дело было так. Я узнала, что злая волшебница Гингема выжила из ума и захотела погубить человеческий род и населить землю крысами и змеями. И мне пришлось употребить все мое волшебное искусство…
– Как, сударыня! – со страхом воскликнула Элли. – Вы волшебница? А как же мама говорила мне, что теперь нет волшебников?
– Где живет твоя мама?
– В Канзасе.
– Никогда не слыхала такого названия, – сказала волшебница, поджав губы. – Но что бы ни говорила твоя мама, в этой стране живут волшебники и мудрецы. Нас здесь было четыре волшебницы. Две из нас – волшебница Желтой страны (это я, Виллина!) и волшебница Розовой страны Стелла – добрые. А волшебница Голубой страны Гингема и волшебница Фиолетовой страны Бастинда – очень злые. Твой домик раздавил Гингему, и теперь осталась только одна злая волшебница в нашей стране.
Элли была изумлена. Как могла уничтожить злую волшебницу она, маленькая девочка, не убившая в своей жизни даже воробья?
Элли сказала:
– Вы, конечно, ошибаетесь: я никого не убивала.
– Я тебя в этом и не виню, – спокойно возразила волшебница Виллина. – Ведь это я, чтобы спасти людей от беды, лишила ураган разрушительной силы и позволила ему захватить только один домик, чтобы сбросить его на голову коварной Гингемы, потому что вычитала в моей волшебной книге, что он всегда пустует в бурю…
Элли смущенно ответила:
– Это правда, сударыня, во время ураганов мы прячемся в погреб, но я побежала в домик за моей собачкой…
– Такого безрассудного поступка моя волшебная книга никак не могла предвидеть! – огорчилась волшебница Виллина. – Значит, во всем виноват этот маленький зверь…
– Тотошка, ав-ав, с вашего позволения, сударыня! – неожиданно вмешался в разговор песик. – Да, с грустью признаюсь, это я во всем виноват…
– Как, ты заговорил, Тотошка? – с удивлением вскрикнула Элли.
– Не знаю, как это получается, Элли, но, ав-ав, из моего рта невольно вылетают человеческие слова…
– Видишь ли, Элли, – объяснила Виллина, – в этой чудесной стране разговаривают не только люди, но и все животные и даже птицы. Посмотри вокруг, нравится тебе наша страна?
– Она недурна, сударыня, – ответила Элли, – но у нас дома лучше. Посмотрели бы вы на наш скотный двор! Посмотрели бы вы на нашу Пестрянку, сударыня! Нет, я хочу вернуться на родину, к маме и папе…
– Вряд ли это возможно, – сказала волшебница. – Наша страна отделена от всего света пустыней и огромными горами, через которые не переходил ни один человек. Боюсь, моя крошка, что тебе придется остаться с нами.
Глаза Элли наполнились слезами. Добрые Жевуны очень огорчились и тоже заплакали, утирая слезы голубыми носовыми платочками. Жевуны сняли шляпы и поставили их на землю, чтобы бубенчики своим звоном не мешали им рыдать.
– А вы совсем-совсем не поможете мне? – грустно спросила Элли.
– Ах да, – спохватилась Виллина, – я совсем забыла, что моя волшебная книга при мне. Надо посмотреть в нее: может быть, я там что-нибудь вычитаю полезное для тебя…
Виллина вынула из складок одежды крошечную книжку величиной с наперсток. Волшебница подула на нее, и на глазах удивленной и немного испуганной Элли книга начала расти, расти и превратилась в громадный том. Он был так тяжел, что старушка положила его на большой камень.
Виллина смотрела на листы книги, и они сами переворачивались под ее взглядом.
– Нашла, нашла! – воскликнула вдруг волшебница и начала медленно читать: – «Бамбара, чуфара, скорики, морики, турабо, фурабо, лорики, ерики… Великий волшебник Гудвин вернет домой маленькую девочку, занесенную в его страну ураганом, если она поможет трем существам добиться исполнения их самых заветных желаний, пикапу, трикапу, ботало, мотало…»
– Пикапу, трикапу, ботало, мотало… – в священном ужасе повторяли Жевуны.
– А кто такой Гудвин? – спросила Элли.
– О, это самый Великий Мудрец нашей страны, – прошептала старушка. – Он могущественнее всех нас и живет в Изумрудном городе.
– А он злой или добрый?
– Этого никто не знает. Но ты не бойся, разыщи три существа, исполни их заветные желания, и Волшебник Изумрудного города поможет тебе вернуться в твою страну!
– Где Изумрудный город? – спросила Элли.
– Он в центре страны. Великий Мудрец и Волшебник Гудвин сам построил его и управляет им. Но он окружил себя необычайной таинственностью, и никто не видел его после постройки города, а она закончилась много-много лет назад.
– Как же я дойду до Изумрудного города?
– Дорога далека. Не везде страна хороша, как здесь. Есть темные леса со страшными зверями, есть быстрые реки – переправа через них опасна…
– Не пойдете ли вы со мной? – спросила девочка.
– Нет, дитя мое, – ответила Виллина. – Я не могу надолго покидать Желтую страну. Ты должна идти одна. Дорога в Изумрудный город вымощена желтым кирпичом, и ты не заблудишься. Когда придешь к Гудвину, проси у него помощи…
– А долго мне придется здесь прожить, сударыня? – спросила Элли, опустив голову.
– Не знаю, – ответила Виллина. – Об этом ничего не сказано в моей волшебной книге. Иди, ищи, борись! Я буду время от времени заглядывать в волшебную книгу, чтобы знать, как идут твои дела… Прощай, моя дорогая!
Виллина наклонилась к огромной книге, и та тотчас сжалась до размеров наперстка и исчезла в складках мантии. Налетел вихрь, стало темно, и, когда мрак рассеялся, Виллины уже не было: волшебница исчезла. Элли и Жевуны задрожали от страха, и бубенчики на шляпах маленьких людей зазвенели сами собой.
Когда все немного успокоились, самый смелый из Жевунов, их старшина, обратился к Элли:
– Могущественная фея! Приветствуем тебя в Голубой стране! Ты убила злую Гингему и освободила Жевунов!
Элли сказала:
– Вы очень любезны, но тут ошибка: я не фея. И ведь вы же слышали, что мой домик упал на Гингему по приказу волшебницы Виллины…
– Мы этому не верим, – упрямо возразил старшина Жевунов. – Мы слышали твой разговор с доброй волшебницей, ботало, мотало, но мы думаем, что и ты могущественная фея. Ведь только феи могут разъезжать по воздуху в своих домиках, и только фея могла освободить нас от Гингемы, злой волшебницы Голубой страны. Гингема много лет правила нами и заставляла нас работать день и ночь…
– Она заставляла нас работать день и ночь! – хором сказали Жевуны.
– Она приказывала нам ловить пауков и летучих мышей, собирать лягушек и пиявок по канавам. Это были ее любимые кушанья…
– А мы, – заплакали Жевуны, – мы очень боимся пауков и пиявок!
– О чем же вы плачете? – спросила Элли. – Ведь все это прошло!
– Правда, правда! – Жевуны дружно рассмеялись, и бубенчики на их шляпах зазвенели.
– Могущественная госпожа Элли! – заговорил старшина. – Хочешь стать нашей повелительницей вместо Гингемы? Мы уверены, что ты очень добра и не слишком часто станешь нас наказывать!..
– Нет, – возразила Элли, – я только маленькая девочка и не гожусь в правительницы страны. Если вы хотите помочь мне, дайте возможность исполнить ваши заветные желания!
– У нас было единственное желание – избавиться от злой Гингемы, пикапу, трикапу! Но твой домик – крак! крак! – раздавил ее, и у нас больше нет желаний!.. – сказал старшина.
– Тогда мне нечего здесь делать. Я пойду искать тех, у кого есть желания. Только вот башмаки у меня очень уж старые и рваные – они не выдержат долгого пути. Правда, Тотошка? – обратилась Элли к песику.
– Конечно, не выдержат, – согласился Тотошка. – Но ты не горюй, Элли, я тут неподалеку видел кое-что и помогу тебе!
– Ты? – удивилась девочка.
– Да, я! – с гордостью ответил Тотошка и исчез за деревьями. Через минуту он вернулся с красивым серебряным башмачком в зубах и торжественно положил его у ног Элли. На башмачке блестела золотая пряжка.
– Откуда ты его взял? – изумилась Элли.
– Сейчас расскажу! – отвечал запыхавшийся песик, скрылся и вновь вернулся с другим башмачком.
– Какая прелесть! – восхищенно сказала Элли и примерила башмачки, – они как раз пришлись ей по ноге, точно были на нее сшиты.
– Когда я бегал на разведку, – важно начал Тотошка, – я увидел за деревьями большое черное отверстие в горе…
– Ай-ай-ай! – в ужасе закричали Жевуны. – Ведь это вход в пещеру злой волшебницы Гингемы! И ты осмелился туда войти?..
– А что тут страшного? Ведь Гингема-то умерла! – возразил Тотошка.
– Ты, должно быть, тоже волшебник! – со страхом молвил старшина; все другие Жевуны согласно закивали головами, и бубенчики под шляпами дружно зазвенели.
– Вот там-то, войдя в эту, как вы ее называете, пещеру, я увидел много смешных и странных вещей, но больше всего мне понравились стоящие у входа башмачки. Какие-то большие птицы со страшными желтыми глазами пытались помешать мне взять башмачки, но разве Тотошка испугается чего-нибудь, когда он хочет услужить своей Элли?
– Ах ты, мой милый смельчак! – воскликнула Элли и нежно прижала песика к груди. – В этих башмачках я пройду без устали сколько угодно…
– Это очень хорошо, что ты получила башмачки злой Гингемы, – перебил ее старший Жевун. – Кажется, в них заключена волшебная сила, потому что Гингема надевала их только в самых важных случаях. Но какая это сила, мы не знаем… И ты все-таки уходишь от нас, милостивая госпожа Элли? – со вздохом спросил старшина. – Тогда мы принесем тебе что-нибудь поесть на дорогу.
Жевуны ушли, и Элли осталась одна. Она нашла в домике кусок хлеба и съела его на берегу ручья, запивая прозрачной холодной водой. Затем она стала собираться в далекий путь, а Тотошка бегал под деревом и старался схватить сидящего на нижней ветке крикливого пестрого попугая, который все время дразнил его.
Элли вышла из фургона, заботливо закрыла дверь и написала на ней мелом: «Меня нет дома».
Тем временем вернулись Жевуны. Они натащили столько еды, что Элли хватило бы ее на несколько лет. Здесь были бараны, жареные гуси и утки, корзина с фруктами…
Элли со смехом сказала:
– Ну куда мне столько, друзья мои?
Она положила в корзину немного хлеба и фруктов, попрощалась с Жевунами и смело отправилась в путь с веселым Тотошкой.
* * *
Неподалеку от домика было перепутье: здесь расходились несколько дорог. Элли выбрала дорогу, вымощенную желтым кирпичом, и бодро зашагала по ней. Солнце сияло, птички пели, и маленькая девочка, заброшенная в удивительную чужую страну, чувствовала себя совсем неплохо.
Дорога была огорожена с обеих сторон красивыми голубыми изгородями. За ними начинались возделанные поля. Кое-где виднелись круглые домики. Крыши их были похожи на остроконечные шляпы Жевунов. На крышах сверкали хрустальные шарики. Домики были выкрашены в голубой цвет.
На полях работали маленькие мужчины и женщины; они снимали шляпы и приветливо кланялись Элли. Ведь теперь каждый Жевун знал, что девочка в серебряных башмачках освободила их страну от злой волшебницы, опустив свой домик – крак! крак! – прямо ей на голову.
Все Жевуны, которых встречала Элли на пути, с боязливым удивлением смотрели на Тотошку и, слыша его лай, затыкали уши. Когда же веселый песик подбегал к кому-нибудь из Жевунов, тот удирал от него во весь дух: в стране Гудвина совсем не было собак.
К вечеру, когда Элли проголодалась и подумывала, где провести ночь, она увидела у дороги большой дом. На лужайке перед домом плясали маленькие мужчины и женщины. Музыканты усердно играли на маленьких скрипках и флейтах. Тут же резвились дети, такие крошечные, что Элли глаза раскрыла от изумления: они походили на кукол. На террасе были расставлены длинные столы с вазами, полными фруктов, орехов, конфет, вкусных пирогов и больших тортов.
Завидев Элли, из толпы танцующих вышел красивый высокий старик (он был на целый палец выше Элли) и с поклоном сказал:
– Я и мои друзья празднуем сегодня освобождение нашей страны от злой волшебницы. Осмелюсь ли просить могущественную фею Убивающего Домика принять участие в нашем пире?
– Почему вы думаете, что я фея? – спросила Элли.
– Ты раздавила злую волшебницу Гингему – крак! крак! – как пустую яичную скорлупу; на тебе ее волшебные башмаки; с тобой удивительный зверь, какого мы никогда не видели, и, по рассказам наших друзей, он тоже одарен волшебной силой…
На это Элли не сумела ничего возразить и пошла за стариком, которого звали Прем Кокус. Ее встретили как королеву, и бубенчики непрестанно звенели, и были бесконечные танцы, и было съедено великое множество пирожных и выпито бесчисленное количество прохладительного, и весь вечер прошел так весело и приятно, что Элли вспомнила о папе и маме, только засыпая в постели.
Утром, после сытного завтрака, она спросила Кокуса:
– Далеко ли отсюда до Изумрудного города?
– Не знаю, – задумчиво ответил старик. – Я никогда не бывал там. Лучше держаться подальше от Великого Гудвина, особенно если не имеешь к нему важного дела. Да и дорога до Изумрудного города длинная и трудная. Тебе придется проходить темные леса и переправляться через быстрые глубокие реки.
Элли немного огорчилась, но она знала, что только Великий Гудвин вернет ее в Канзас, и поэтому распрощалась с друзьями и снова отправилась в путь по дороге, вымощенной желтым кирпичом.
Страшила
Элли шла уже несколько часов и устала. Она присела отдохнуть у голубой изгороди, за которой расстилалось поле спелой пшеницы.
Около изгороди стоял длинный шест, на нем торчало соломенное чучело – отгонять птиц. Голова чучела была сделана из мешочка, набитого соломой, с нарисованными на нем глазами и ртом, так что получалось смешное человеческое лицо. Чучело было одето в поношенный голубой кафтан; кое-где из прорех кафтана торчала солома. На голове была старая потертая шляпа, с которой были срезаны бубенчики, на ногах – старые голубые ботфорты, какие носили мужчины в этой стране.
Чучело имело забавный и вместе с тем добродушный вид.
Элли внимательно разглядывала смешное разрисованное лицо чучела и удивилась, увидев, что оно вдруг подмигнуло ей правым глазом. Она решила, что ей почудилось: ведь чучела никогда не мигают в Канзасе. Но фигура закивала головой с самым дружеским видом.
Элли испугалась, а храбрый Тотошка с лаем набросился на изгородь, за которой был шест с чучелом.
– Спокойной ночи! – сказало чучело немного хриплым голосом. – Простите, я хотел сказать – добрый день!
– Ты умеешь говорить? – удивилась Элли.
– Не очень хорошо, – призналось чучело. – Еще путаю некоторые слова, ведь меня так недавно сделали. Как ты поживаешь?
– Спасибо, хорошо! Скажи, нет ли у тебя заветного желания?
– У меня? О, у меня целая куча желаний! – И чучело скороговоркой начало перечислять: – Во-первых, мне нужны серебряные бубенчики на шляпу, во-вторых, мне нужны новые сапоги, в‑третьих…
– О, хватит, хватит, – перебила Элли. – Какое из них самое-самое заветное?
– Самое-самое? – Чучело задумалось. – Чтобы меня посадили на кол!
– Да ты и так сидишь на колу, – рассмеялась Элли.
– А ведь и в самом деле, – согласилось чучело. – Видишь, какой я путник… то есть нет, путаник. Значит, меня нужно снять. Очень скучно торчать здесь день и ночь и пугать противных ворон, которые, кстати сказать, совсем меня не боятся.
Элли наклонила кол и, вцепившись обеими руками в чучело, стащила его.
– Чрезвычайно сознателен… то есть признателен, – пропыхтело чучело, очутившись на земле. – Я чувствую себя прямо новым человеком. Если бы еще получить серебряные бубенчики на шляпу да новые сапоги!
Чучело заботливо расправило кафтан, стряхнуло с себя соломинки и, шаркнув ножкой по земле, представилось девочке:
– Страшила!
– Что ты говоришь? – не поняла Элли.
– Я говорю: Страшила. Это меня так назвали: ведь я должен пугать ворон. А тебя как зовут?
– Элли.
– Красивое имя! – сказал Страшила.
Элли смотрела на него с удивлением. Она не могла понять, как чучело, набитое соломой и с нарисованным лицом, ходит и говорит.
Но тут возмутился Тотошка и с негодованием воскликнул:
– А почему ты со мной не здороваешься?
– Ах, виноват, виноват! – извинился Страшила и пожал песику лапу. – Честь имею представиться: Страшила!
– Очень приятно! А я Тото! Но близким друзьям позволительно звать меня Тотошкой!
– Ах, Страшила, как я рада, что исполнила самое заветное твое желание! – сказала Элли.
– Извини, Элли, – Страшила снова шаркнул ножкой, – но я, оказывается, ошибся. Мое самое заветное желание – получить мозги!
– Мозги?
– Ну да, мозги. Очень хорошо, простите, неприятно, когда голова у тебя набита соломой…
– Как же тебе не стыдно обманывать? – с упреком спросила Элли.
– А что значит – обманывать? Меня сделали только вчера, и я ничего не знаю…
– Откуда же ты узнал, что у тебя в голове солома, а у людей – мозги?
– Это мне сказала одна ворона, когда я с ней ссорился. Дело, видишь ли, Элли, было так. Сегодня утром поблизости от меня летала большая взъерошенная ворона и не столько клевала пшеницу, сколько выбивала из нее на землю зерна. Потом она нахально уселась на мое плечо и клюнула меня в щеку. «Кагги-карр! – насмешливо прокричала ворона. – Вот так чучело! Толку-то от него ничуть! Какой это чудак фермер думал, что мы, вороны, будем его бояться?..» Ты понимаешь, Элли, я страшно рассмеялся… то есть рассердился и изо всех сил пытался заговорить. И какова была моя радость, когда это мне удалось. Но, понятно, у меня сначала выходило не очень складно. «Пш… пш… пшла прочь, гадкая! – закричал я. – Нс… нс… не смей клевать меня! Я прт… шрт… я страшный!» Я даже сумел ловко сбросить ворону с плеча, схватив ее за крыло рукой. Ворона, впрочем, ничуть не смутилась и принялась нагло клевать колосья прямо передо мной. «Эка, удивил! – сказала она. – Точно я не знаю, что в стране Гудвина и чучело сможет заговорить, если сильно захочет! А все равно я тебя не боюсь! С шеста ведь не слезешь!» – «Пшш… пшш… Пшла! Ах я, несчастный», – чуть не захохотал… простите, зарыдал я. И правда, куда я годен? Даже поля от ворон уберечь не могу. И слова все время говорю не те, что нужно.
При всем своем нахальстве эта ворона была, по-видимому, добрая птица, – продолжал Страшила. – Ей стало меня жаль. «А ты не печалься так! – хрипло сказала она мне. – Если бы у тебя были мозги в голове, ты был бы как все люди! Мозги – единственно стоящая вещь у вороны… и у человека!» Вот так-то я и узнал, что у людей бывают мозги, а у меня их нет. Я грустно… то есть весело, закричал: «Эй-гей-гей-го! Да здравствуют мозги! Я себе обязательно их раздобуду!..» Но ворона очень капризная птица, и она сразу охладила мою радость. «Кагги-карр!.. – захохотала она. – Коли нет мозгов, так и не будет! Карр-карр!..» И она улетела, а вскоре пришли вы с Тотошкой, – закончил Страшила свой рассказ. – Вот теперь, Элли, скажи: сможешь ты дать мне мозги?
– Нет, что ты! Это может сделать разве только Гудвин в Изумрудном городе. Я как раз сама иду к нему просить, чтобы он вернул меня в Канзас, к папе и маме.
– А где это Изумрудный город и кто такой Гудвин?
– Разве ты не знаешь?
– Нет, – печально ответил Страшила. – Я ничего не знаю. Ты же видишь, я набит соломой и у меня совсем нет мозгов.
– Ох, как мне тебя жалко! – вздохнула девочка.
– Спасибо! А если я пойду с тобой в Изумрудный город, Гудвин обязательно даст мне мозги?
– Не знаю. Но если Великий Гудвин и не даст тебе мозгов, хуже не будет, чем теперь.
– Это верно, – сказал Страшила. – Видишь ли, – доверчиво продолжал он, – меня нельзя ранить, так как я набит соломой. Ты можешь насквозь проткнуть меня иглой, и мне не будет больно. Но я не хочу, чтобы люди называли меня глупцом, а разве без мозгов чему-нибудь научишься?
– Бедный! – сказала Элли. – Пойдем с нами! Я попрошу Гудвина помочь тебе.
– Здравствуйте!.. Ох, спасибо! – поправился Страшила и снова раскланялся.
Право, для чучела, прожившего на свете один только день, он был удивительно вежлив.
Девочка помогла Страшиле сделать первые два шага, и они вместе пошли в Изумрудный город по дороге, вымощенной желтым кирпичом.
Сначала Тотошке не нравился новый спутник. Он бегал вокруг чучела и обнюхивал его, считая, что в соломе внутри кафтана есть мышиное гнездо. Он недружелюбно лаял на Страшилу и делал вид, что хочет его укусить.
– Не бойся Тотошки, – сказала Элли, – он не укусит тебя.
– Да я и не боюсь! Разве можно укусить солому? Дай я понесу твою корзинку. Мне это нетрудно: я ведь не могу уставать. Скажу тебе по секрету, – прошептал он на ухо девочке своим хрипловатым голосом, – есть только одна вещь на свете, которой я боюсь.
– О! – воскликнула Элли. – Что же это такое? Мышь?
– Нет! Горящая спичка!
* * *
Через несколько часов дорога стала неровной; Страшила часто спотыкался. Попадались ямы. Тотошка перепрыгивал через них, а Элли обходила кругом. Но Страшила шел прямо, падал и растягивался во всю длину. Он не ушибался. Элли брала его за руку, поднимала, и Страшила шагал дальше, смеясь над своей неловкостью.
Потом Элли подобрала у края дороги толстую ветку и предложила ее Страшиле вместо трости. Тогда дело пошло лучше, и походка Страшилы стала тверже.
Домики попадались все реже, плодовые деревья совсем исчезли. Страна становилась безлюдной и угрюмой.
Путники уселись у ручейка. Элли достала хлеб и предложила кусочек Страшиле, но он вежливо отказался.
– Я никогда не хочу есть. И это очень удобно для меня.
Элли не настаивала и отдала кусок Тотошке: песик жадно проглотил его и стал на задние лапки, прося еще.
– Расскажи мне о себе, Элли, о своей стране, – попросил Страшила.
Элли долго рассказывала о широкой канзасской степи, где летом все так серо и пыльно и все совершенно не такое, как в этой удивительной стране Гудвина.
Страшила слушал внимательно.
– Я не понимаю, почему ты хочешь вернуться в свой сухой и пыльный Канзас.
– Ты потому не понимаешь, что у тебя нет мозгов, – горячо ответила девочка. – Дома всегда лучше.
Страшила лукаво улыбнулся:
– Солома, которой я набит, выросла в поле, кафтан сделал портной, сапоги сшил сапожник. Где же мой дом? На поле, у портного или у сапожника?
Элли растерялась и не знала, что ответить.
Несколько минут сидела молча.
– Может быть, теперь ты мне расскажешь что-нибудь? – спросила девочка.
Страшила взглянул на нее с упреком:
– Моя жизнь так коротка, что я ничего не знаю. Ведь меня сделали только вчера, и я понятия не имею, что было раньше на свете. К счастью, когда хозяин делал меня, он прежде всего нарисовал мне уши, и я мог слышать, что делается вокруг. У хозяина гостил другой Жевун, и первое, что я услышал, были его слова: «А ведь уши-то велики!» – «Ничего! В самый раз!» – ответил хозяин и нарисовал мне правый глаз.
Я с любопытством начал разглядывать все, что делается вокруг, так как – ты понимаешь – ведь я первый раз смотрел на мир.
«Подходящий глазок! – сказал гость. – Не пожалел голубой краски!»
«Мне кажется, другой вышел немного больше», – сказал хозяин, кончив рисовать мой второй глаз.
Потом он сделал мне из заплатки нос и нарисовал рот, но я не умел еще говорить, потому что не знал, зачем у меня рот. Хозяин надел на меня свой костюм и шляпу, с которой ребятишки срезали бубенчики. Я был страшно горд. Мне казалось, что я выгляжу как настоящий человек.
«Этот парень будет чудесно пугать ворон», – сказал фермер.
«Знаешь что? Назови его Страшилой!» – посоветовал гость, и хозяин согласился.
Дети фермера весело закричали: «Страшила! Страшила! Пугай ворон!»
Меня отнесли на поле, проткнули шестом и оставили одного. Было скучно висеть, но слезть я не мог. Вчера птицы еще боялись меня, но сегодня уже привыкли. Тут я и познакомился с доброй вороной, которая рассказала мне про мозги. Вот было бы хорошо, если бы Гудвин дал их мне…
– Я думаю, он тебе поможет, – подбодрила его Элли.
– Да, да! Неудобно чувствовать себя глупцом, когда даже вороны смеются над тобой.
– Идем! – сказала Элли, встала и подала Страшиле корзинку.
К вечеру путники вошли в большой лес. Ветви деревьев низко спускались и загораживали дорогу, вымощенную желтым кирпичом. Солнце зашло, и стало совсем темно.
– Если увидишь домик, где можно переночевать, скажи мне, – попросила Элли сонным голосом. – Очень неудобно и страшно идти в темноте.
Скоро Страшила остановился.
– Я вижу справа маленькую хижину. Пойдем туда?
– Да, да! – ответила Элли. – Я так устала!..
Они свернули с дороги и скоро дошли до хижины. Элли нашла в углу постель из мха и сухой травы и сейчас же уснула, обняв Тотошку. А Страшила сидел на пороге, оберегая покой обитателей хижины.
Оказалось, что Страшила караулил не напрасно. Ночью какой-то зверь с белыми полосками на спине и на черной свиной мордочке попытался проникнуть в хижину. Скорее всего, его привлек запах съестного из Эллиной корзинки, но Страшиле показалось, что Элли угрожает большая опасность.
Он, затаившись, подпустил врага к самой двери (врагом этим был молодой барсук, о чем Страшила, конечно, не знал). И когда барсучишка уже просунул в дверь свой любопытный нос, принюхиваясь к соблазнительному запаху, Страшила стегнул его прутиком по жирной спине.
Барсучишка взвыл, кинулся в чащу леса, и долго еще слышался из-за деревьев его обиженный визг…
Остаток ночи прошел спокойно: лесные звери поняли, что у хижины есть надежный защитник. А Страшила, который никогда не уставал и никогда не хотел спать, сидел на пороге, пялил глаза в темноту и терпеливо дожидался утра.
Спасение Железного Дровосека
Элли проснулась. Страшила сидел на пороге, а Тотошка гонял в лесу белок.
– Надо поискать воды, – сказала девочка.
– Зачем тебе вода?
– Умыться и попить. Сухой кусок не идет в горло.
– Фу, как неудобно быть сделанным из мяса и костей! – задумчиво сказал Страшила. – Вы должны и спать, и есть, и пить. Впрочем, у вас есть мозги, а за них можно терпеть всю эту кучу неудобств.
Они нашли ручеек, и Элли с Тотошкой позавтракали. В корзинке оставалось еще немного хлеба. Элли собралась идти к дороге, как вдруг услыхала в лесу стон.
– Что это? – спросила она со страхом.
– Понятия не имею, – отвечал Страшила. – Пойдем посмотрим.
Стон раздался снова. Они стали пробираться сквозь чащу. Скоро они увидели среди деревьев какую-то фигуру. Элли подбежала и остановилась с криком изумления.
У надрубленного дерева с высоко поднятым топором в руках стоял человек, целиком сделанный из железа. Голова его, руки и ноги были прикреплены к железному туловищу на шарнирах; на голове вместо шапки была медная воронка, галстук на шее был железный. Человек стоял неподвижно, с широко раскрытыми глазами.
Тотошка с яростным лаем попытался укусить незнакомца за ногу и отскочил с визгом: он чуть не сломал зубы.
– Что за безобразие, ав-ав-ав! – пожаловался он. – Разве можно подставлять порядочной собаке железные ноги?..
– Наверное, это лесное пугало, – догадался Страшила. – Не понимаю только, что оно здесь охраняет?
– Это ты стонал? – спросила Элли.
– Да… – ответил железный человек. – Уже целый год никто не приходит мне помочь…
– А что нужно сделать? – спросила Элли, растроганная жалобным голосом незнакомца.
– Мои суставы заржавели, и я не могу двигаться. Но если меня смазать, я буду как новенький. Ты найдешь масленку в моей хижине на полке.
Элли с Тотошкой убежали, а Страшила ходил вокруг Железного Дровосека и с любопытством рассматривал его.
– Скажи, друг, – поинтересовался Страшила, – год – это долго?
– Еще бы! Год – это долго, очень долго! Это целых триста шестьдесят пять дней.
– Триста… шестьдесят… пять… – повторил Страшила. – А что, это больше, чем три?
– Какой ты глупый! – ответил Дровосек. – Ты, видно, совсем не умеешь считать!
– Ошибаешься! – гордо возразил Страшила. – Я очень хорошо умею считать! – И он начал считать, загибая пальцы: – Хозяин сделал меня – раз! Я поссорился с вороной – два! Элли сняла меня с кола – три! А больше со мной ничего не случилось, значит, дальше и считать незачем!
Железный Дровосек так удивился, что даже не смог ничего возразить. В это время Элли принесла масленку.
– Где смазывать? – спросила она.
– Сначала шею, – ответил Железный Дровосек.
И Элли смазала шею, но она так заржавела, что Страшиле долго пришлось поворачивать голову Дровосека вправо и влево, пока шея не перестала скрипеть.
– Теперь, пожалуйста, руки!
И Элли стала смазывать суставы рук, а Страшила осторожно поднимал и опускал руки Дровосека, пока они не стали действительно как новенькие. Тогда Железный Дровосек глубоко вздохнул и бросил топор.
– Ух, как хорошо, – сказал он. – Я поднял вверх топор, прежде чем заржаветь, и очень рад, что могу от него избавиться. Ну а теперь дайте мне масленку, я смажу себе ноги, и все будет в порядке.
Смазав ноги, так что он мог свободно двигать ими, Железный Дровосек много раз поблагодарил Элли, потому что он был очень вежливым.
– Я стоял бы здесь до тех пор, пока не обратился бы в железную пыль. Вы спасли мне жизнь. Кто вы такие?
– Я – Элли, а это мои друзья…
– Тото!
– Страшила! Я набит соломой!
– Об этом нетрудно догадаться по твоим разговорам, – заметил Железный Дровосек. – Но как вы сюда попали?
– Мы идем в Изумрудный город к Великому Волшебнику Гудвину и провели в твоей хижине ночь.
– Зачем вы идете к Гудвину?
– Я хочу, чтобы Гудвин вернул меня в Канзас, к папе и маме, – сказала Элли.
– А я хочу попросить у него немножечко мозгов для моей соломенной головы, – сказал Страшила.
– А я иду просто потому, что люблю Элли, и потому, что мой долг – защищать ее от врагов! – сказал Тотошка.
Железный Дровосек глубоко задумался.
– Как вы полагаете, Гудвин может дать мне сердце?
– Думаю, что может, – отвечала Элли. – Ему это не труднее, чем дать Страшиле мозги.
– Так вот, если вы примете меня в компанию, я пойду с вами в Изумрудный город и попрошу Великого Гудвина дать мне сердце. Ведь иметь сердце – самое заветное мое желание!
Элли радостно воскликнула:
– Ах, друзья мои, как я рада! Теперь вас двое, и у вас два заветных желания!
– Поплывем… то бишь пойдем, с нами, – добродушно согласился Страшила.
Железный Дровосек попросил Элли доверху наполнить маслом масленку и положить ее на дно корзинки.
– Я могу попасть под дождь и заржаветь, – сказал он, – и без масленки мне придется плохо…
Потом он поднял топор, и они пошли через лес к дороге, вымощенной желтым кирпичом.
Большим счастьем было для Элли и Страшилы найти такого спутника, как Железный Дровосек, – сильного и ловкого.
Когда Дровосек заметил, что Страшила опирается на корявую сучковатую дубину, он тотчас срезал с дерева прямую ветку и сделал для товарища удобную и крепкую трость.
Скоро путники пришли к месту, где дорога заросла кустарником и стала непроходимой. Но Железный Дровосек заработал своим огромным топором и быстро расчистил путь.
Элли шла задумавшись и не заметила, как Страшила свалился в яму. Ему пришлось звать друзей на помощь.
– Почему ты не обошел кругом? – спросил Железный Дровосек.
– Не знаю! – чистосердечно ответил Страшила. – Понимаешь, у меня голова набита соломой, и я иду к Гудвину попросить немножечко мозгов.
– Так! – сказал Дровосек. – Во всяком случае, мозги – не самое лучшее на свете.
– Вот еще! – удивился Страшила. – Почему ты так думаешь?
– Раньше у меня были мозги, – пояснил Железный Дровосек. – Но теперь, когда приходится выбирать между мозгами и сердцем, я предпочитаю сердце.
– А почему? – спросил Страшила.
– Послушайте мою историю, и тогда вы все поймете.
И, пока они шли, Железный Дровосек рассказывал им свою историю:
– Я дровосек. Став взрослым, я задумал жениться. Я полюбил от всего сердца одну хорошенькую девушку, а я тогда был еще из мяса и костей, как и все люди. Но злая тетка, у которой жила девушка, не хотела расставаться с ней, потому что девушка работала на нее. Тетка пошла к волшебнице Гингеме и обещала ей набрать целую корзину самых жирных пиявок, если та расстроит свадьбу…
– Злая Гингема убита! – перебил Страшила.
– Кем?
– Элли! Она прилетела на Убивающем Домике и – крак! крак! – села волшебнице на голову.
– Жаль, что этого не случилось раньше! – вздохнул Железный Дровосек и продолжал: – Гингема заколдовала мой топор, он отскочил от дерева и отрубил мне левую ногу. Я очень опечалился: ведь без ноги я не мог быть дровосеком. Я пошел к кузнецу, и он сделал прекрасную железную ногу. Гингема снова заколдовала мой топор, и он отрубил мне правую ногу. Я опять пошел к кузнецу. Девушка любила меня по-прежнему и не отказывалась выйти за меня замуж. «Мы много сэкономим на сапогах и брюках!» – говорила она мне. Однако злая волшебница не успокоилась: ведь ей очень хотелось получить целую корзину пиявок. Я потерял руки, и кузнец сделал мне железные. Когда топор отрубил мне голову, я подумал, что мне пришел конец. Но об этом узнал кузнец и сделал мне отличную железную голову. Я продолжал работать, и мы с девушкой по-прежнему любили друг друга…
– Тебя, значит, делали по кускам, – глубокомысленно заметил Страшила. – А меня мой хозяин сделал зараз…
– Самое худшее впереди, – печально продолжал Дровосек. – Коварная Гингема, видя, что у нее ничего не выходит, решила окончательно доконать меня. Она еще раз заколдовала топор, и он разрубил мне туловище пополам. Но, к счастью, кузнец снова узнал об этом, сделал железное туловище и прикрепил к нему на шарнирах мою голову, руки и ноги. Но – увы! – у меня не было больше сердца: кузнец не сумел его вставить. И мне подумалось, что я, человек без сердца, не имею права любить девушку. Я вернул моей невесте ее слово и заявил, что она свободна от своего обещания. Странная девушка почему-то совсем этому не обрадовалась, сказала, что любит меня, как прежде, и будет ждать, когда я одумаюсь. Что с ней теперь, я не знаю: ведь я не видел ее больше года…
Железный Дровосек вздохнул, и слезы покатились из его глаз.
– Осторожней! – в испуге вскричал Страшила и вытер ему слезы голубым носовым платочком. – Ведь ты заржавеешь от слез!
– Благодарю, мой друг! – сказал Дровосек. – Я забыл, что мне нельзя плакать. Вода вредна мне во всех видах… Итак, я гордился своим новым железным телом и уже не боялся заколдованного топора. Мне страшна была только ржавчина, но я всегда носил с собой масленку. Только раз я позабыл ее, попал под ливень и так заржавел, что не мог сдвинуться с места, пока вы не спасли меня. Я уверен, что и этот ливень обрушила на меня коварная Гингема… Ах, это ужасно – стоять целый год в лесу и думать о том, что у тебя нет сердца!
– С этим может сравниться только торчание на колу посреди пшеничного поля, – перебил его Страшила. – Но, правда, мимо ходили люди, и можно было разговаривать с воронами…
– Когда меня любили, я был счастливейшим человеком, – продолжал Железный Дровосек, вздыхая. – Если Гудвин даст мне сердце, я вернусь в страну Жевунов и женюсь на девушке. Может быть, она все-таки ждет меня…
– А я, – упрямо сказал Страшила, – все-таки предпочитаю мозги: когда нет мозгов, тогда и сердце ни к чему.
– Ну а мне нужно сердце! – возразил Железный Дровосек. – Мозги не делают человека счастливым, а счастье – лучшее, что есть на земле.
Элли молчала, так как не знала, кто из ее новых друзей прав.
Элли в плену у Людоеда
Лес становился глуше. Ветви деревьев, сплетаясь вверху, не пропускали солнечных лучей. На дороге, вымощенной желтым кирпичом, была полутьма.
Шли до позднего вечера. Элли очень устала, и Железный Дровосек взял ее на руки. Страшила плелся сзади, сгибаясь под тяжестью топора.
Наконец остановились на ночлег. Железный Дровосек сделал для Элли уютный шалаш из ветвей. Он и Страшила просидели всю ночь у входа в шалаш, прислушиваясь к дыханию девочки и охраняя ее сон.
Новые друзья потихоньку беседовали. Беседа шла Страшиле на пользу. Хотя у него еще и не было мозгов, но он оказался очень способным, хорошо запоминал новые слова и с каждым часом делал все меньше ошибок в разговоре.
Утром снова двинулись в путь. Дорога стала веселее: деревья опять отступили в стороны, и солнышко ярко освещало желтые кирпичи.
За дорогой здесь, видимо, кто-то ухаживал: сучья и ветки, сбитые ветром, были собраны и аккуратно сложены по краям дороги.
Вдруг Элли заметила впереди столб и на нем доску с надписью:
Путник, торопись!
За поворотом дороги исполнятся все твои желания!
Элли прочитала надпись и удивилась:
– Что это? Я попаду отсюда прямо в Канзас, к маме и папе?
– А я, – подхватил Тотошка, – поколочу соседского Гектора, этого хвастунишку, который уверяет, что он сильнее меня?
Элли обрадовалась, забыла обо всем на свете и бросилась вперед. Тотошка побежал за ней с веселым лаем.
Железный Дровосек и Страшила, увлеченные все тем же интересным спором, что лучше – сердце или мозги, не заметили, что Элли убежала, и мирно шли по дороге. Внезапно они услышали крик девочки и злобный лай Тотошки. Друзья устремились к месту происшествия и успели заметить, как что-то лохматое и темное мелькнуло среди деревьев и скрылось в чаще леса. Возле дерева лежал бесчувственный Тотошка, из его ноздрей текли струйки крови.
– Что случилось? – горестно спросил Страшила. – Должно быть, Элли унес хищный зверь…
Железный Дровосек ничего не говорил: он зорко всматривался вперед и грозно размахивал огромным топором.
– Квирр… квир… – вдруг раздалось насмешливое чоканье Белки с верхушки высокого дерева. – Что случилось?.. Двое больших, сильных мужчин отпустили маленькую девочку, и ее унес Людоед!
– Людоед? – переспросил Железный Дровосек. – Я не слыхал, что в этом лесу живет Людоед.
– Квирр… квир… Каждый муравей в лесу знает о нем. Эх, вы! Не могли присмотреть за маленькой девочкой. Только черненький зверек смело вступился за нее и укусил Людоеда, но тот так хватил его своей огромной ногой, что он, наверное, умрет…
Белка осыпала друзей такими насмешками, что им стало стыдно.
– Надо спасать Элли! – закричал Страшила.
– Да, да! – горячо подхватил Железный Дровосек. – Элли спасла нас, а мы должны отбить ее у Людоеда. Иначе я умру с горя… – и слезы покатились по щекам Железного Дровосека.
– Что ты делаешь! – в испуге закричал Страшила, вытирая ему слезы платочком. – Масленка у Элли!
– Если вы хотите выручить маленькую девочку, я покажу вам, где живет Людоед, хотя очень его боюсь, – сказала Белка.
Железный Дровосек бережно уложил Тотошку на мягкий мох и сказал:
– Если нам удастся вернуться, мы позаботимся о нем… – И он повернулся к Белке: – Веди нас!
Белка запрыгала по деревьям, друзья поспешили за ней. Когда они зашли в глубь леса, показалась серая стена.
Замок Людоеда стоял на холме. Его окружала высокая стена, на которую не вскарабкалась бы и кошка. Перед стеной был ров, наполненный водой. Стащив Элли, Людоед поднял перекидной мост и запер на два засова чугунные ворота.
Людоед жил один. Прежде у него были бараны, коровы и лошади, и он держал много слуг. В те времена мимо замка в Изумрудный город часто проходили путники. Людоед нападал на них и съедал. Потом Жевуны узнали о Людоеде, и движение по дороге прекратилось.
Людоед принялся опустошать замок: сначала съел баранов, коров и лошадей, потом добрался до слуг и съел всех, одного за другим. Последние годы Людоед прятался в лесу, ловил неосторожного кролика или зайца и съедал его с кожей и костями.
Людоед страшно обрадовался, поймав Элли, и решил устроить себе настоящий пир. Он притащил девочку в замок, связал и положил на кухонный стол, а сам принялся точить большой нож.
«Клинк… клинк…» – звенел нож.
А Людоед приговаривал:
– Ба-га-ра! Знатная попалась добыча! Уж теперь полакомлюсь вволю, ба-гар-ра!
Людоед был так доволен, что даже разговаривал с Элли:
– Ба-га-ра! А ловко я придумал повесить доску с надписью! Ты думаешь, я действительно исполню твои желания? Как бы не так! Это я нарочно сделал, заманивать таких простаков, как ты! Ба-гар-ра!
Элли плакала и просила у Людоеда пощады, но он не слушал ее и продолжал точить нож.
«Клинк… клинк… клинк…» И вот Людоед занес над девочкой нож. Она в ужасе закрыла глаза. Однако Людоед опустил руку и зевнул.
– Ба-га-ра! Устал я точить этот большой нож! Пойду-ка отдохну часок-другой. После сна и еда приятней.
Людоед пошел в спальню, и скоро его храп раздался по всему замку и даже был слышен в лесу.
Железный Дровосек и Страшила в недоумении стояли перед рвом, наполненным водой.
– Я бы переплыл через воду, – сказал Страшила, – но вода смоет мои глаза, уши и рот, и я стану слепым, глухим и немым.
– А я утону, – проговорил Железный Дровосек, – ведь я очень тяжел. Если даже и вылезу из воды, сейчас же заржавею, а масленки нет.
Так они стояли, раздумывая, и вдруг услышали храп Людоеда.
– Надо спасать Элли, пока он спит, – сказал Железный Дровосек. – Погоди, я придумал! Сейчас мы переберемся через ров.
Он срубил высокое дерево с развилкой на верхушке, и оно упало на стену замка и прочно легло на ней.
– Полезай! – сказал он Страшиле. – Ты легче меня.
Страшила подошел к мосту, но испугался и попятился. Белка не вытерпела и одним махом взбежала по дереву на стену.
– Квирр… квир… Эх ты, трус! – крикнула она Страшиле. – Смотри, как это просто делается! – но, взглянув в окно замка, она даже ахнула от волнения. – Девочка лежит связанная на кухонном столе… Около нее большой нож… Девочка плачет… Я вижу, как из ее глаз катятся слезы…
Услышав такие вести, Страшила забыл опасность и чуть ли не быстрее Белки взлетел на стену.
– Ох! – только и сказал он, увидев через окно кухни бледное лицо Элли, и мешком свалился во двор.
Прежде чем он встал, Белка спрыгнула ему на спину, перебежала двор, шмыгнула через решетку окна и принялась грызть веревку, которой была связана Элли.
Страшила открыл тяжелые засовы ворот, опустил подъемный мост, и Железный Дровосек вошел во двор, свирепо вращая глазами и воинственно размахивая огромным топором.
Все это он делал, чтобы устрашить Людоеда, если тот проснется и выйдет во двор.
– Сюда! Сюда! – пропищала Белка из кухни, и друзья бросились на ее зов.
Железный Дровосек вложил острие топора в щель между дверью и косяком, нажал, и – трах! – дверь слетела с петель. Элли спрыгнула со стола, и все четверо – Железный Дровосек, Страшила, Элли и Белка – побежали из замка в лес.
Железный Дровосек в спешке так топал ногами по каменным плитам двора, что разбудил Людоеда. Людоед выскочил из спальни, увидел, что девочки нет, и пустился в погоню.
Людоед был невысок, но очень толст. Голова его походила на котел, а туловище – на бочку. У него были длинные руки, как у гориллы, а ноги обуты в выcокие сапоги с толстыми подошвами. На нем был косматый плащ из звериных шкур. На голову вместо шлема Людоед надел большую медную кастрюлю, ручкой назад, и вооружился огромной дубиной с шишкой на конце, утыканной острыми гвоздями.
Он рычал от злости, и его сапожищи грохотали: «Топ-топ-топ…» А острые зубы стучали: «Клац-клац-клац…»
– Ба-гар-ра! Не уйдете, мошенники!..
Людоед быстро догонял беглецов. Видя, что от погони не убежать, Железный Дровосек прислонил испуганную Элли к дереву и приготовился к бою. Страшила отстал: ноги его цеплялись за корни, а грудью он задевал за ветки деревьев. Людоед догнал Страшилу, и тот вдруг бросился ему под ноги. Не ожидавший этого Людоед кувырком перелетел через Страшилу.
– Ба-гар-ра! Это еще что за чучело!
Людоед не успел опомниться, как к нему сзади подскочил Железный Дровосек, поднял огромный острый топор и разрубил Людоеда пополам вместе с кастрюлей.
– Квир… квир… Славно сделано! – восхитилась Белка и поскакала по деревьям, рассказывая всему лесу о гибели свирепого Людоеда.
– Очень остроумно! – похвалил Железный Дровосек Страшилу. – Ты не смог бы лучше свалить Людоеда, если бы у тебя были мозги.
– Милые друзья мои, спасибо вам за вашу самоотверженность! – со слезами на глазах воскликнула Элли.
– Са-мо-от-вер-жен-ность… – с восхищением повторил Страшила по складам. – У, какое хорошее длинное слово, я таких еще и не слыхивал. А это не та самая вещь, которая бывает в мозгах?
– Нет, в мозгах бывает ум, – объяснила девочка.
– Значит, у меня еще нет ума, а только самоотверженность. Жалко! – огорчился Страшила.
– Не горюй, – сказал Дровосек. – Самоотверженность – это тоже хорошо, это когда человек не жалеет себя для других. Болит твоя рана?
– Да что там, просто красота! То есть я хотел сказать, чепуха. Разве может болеть солома? Вот только я боюсь, что мое содержимое вылезет из меня.
Элли достала иголку с ниткой и принялась зашивать прорехи. В это время из леса послышался тихий визг. Железный Дровосек бросился в чащу и принес Тотошку. Храбрый маленький песик опомнился от бесчувствия и полз по следу Людоеда…
Элли взяла обессиленного Тотошку на руки, и путники пошли через лес. Вскоре они выбрались к дороге, вымощенной желтым кирпичом, и бодро двинулись к Изумрудному городу.
Встреча с Трусливым Львом
В эту ночь Элли спала в дупле, на мягкой постельке из мха и листьев. Сон ее был тревожен: ей чудилось, что она лежит связанная и что Людоед заносит над ней руку с огромным ножом. Девочка вскрикивала и просыпалась.
Утром двинулись в путь. Лес был мрачен. Из-за деревьев доносился рев зверей. Элли вздрагивала от страха, а Тотошка, поджав хвостик, прижимался к ногам Железного Дровосека: он стал очень уважать его после победы над Людоедом.
Путники шли, тихо разговаривая о вчерашних событиях, и радовались спасению Элли. Дровосек не переставал хвалить находчивость Страшилы.
– Как ты ловко бросился под ноги Людоеду, друг Страшила! – говорил он. – Уж не завелись ли у тебя в голове мозги?
– Нет, солома… – отвечал Страшила, пощупав голову.
Эта мирная беседа была прервана громовым рычанием. На дорогу выскочил огромный Лев. Одним ударом он подбросил Страшилу в воздух; тот полетел кувырком и упал на краю дороги, распластавшись, как тряпка. Лев ударил Железного Дровосека лапой, но когти заскрипели по железу, а Дровосек от толчка сел, и воронка слетела у него с головы.
Крохотный Тотошка смело бросился на врага.
Громадный зверь разинул пасть, чтобы проглотить собачку, но Элли смело выбежала вперед и загородила собой Тотошку.
– Стой! Не смей трогать Тотошку! – гневно закричала она. Лев замер в изумлении.
– Простите, – оправдывался Лев, – но я ведь не съел его…
– Однако ты пытался. Как тебе не стыдно обижать слабых! Ты просто трус!
– А… а как вы узнали о том, что я трус? – спросил ошеломленный Лев. – Вам кто-нибудь сказал?
– Сама вижу по твоим поступкам!
– Удивительно… – сконфуженно проговорил Лев. – Как я ни стараюсь скрыть свою трусость, а дело все-таки выплывает наружу. Я всегда был трусом, но ничего не могу с этим поделать!
– Подумать только: ты ударил бедного, набитого соломой Страшилу!
– Он набит соломой? – спросил Лев, удивленно глядя на Страшилу.
– Конечно, – ответила Элли, еще рассерженная на Льва.
– Понимаю теперь, почему он такой мягкий и такой легонький, – сказал Лев. – А тот, второй, – тоже набитый?
– Нет, он из железа.
– Ага! Недаром я чуть не поломал об него когти. А что это за маленький зверек, которого ты так любишь?
– Это моя собачка, Тотошка.
– Она из железа или набита соломой?
– Ни то, ни другое. Она настоящая собачка, из мяса и костей.
– Скажи, какая маленькая, а ведь храбрая! – изумился Лев.
– У нас в Канзасе все собаки такие! – с гордостью молвил Тотошка.
– Смешное животное! – сказал Лев. – Только такой трус, как я, и мог напасть на такую крошку…
– Почему же ты трус? – спросила Элли, с удивлением глядя на громадного Льва.
– Таким уродился. Конечно, все считают меня храбрым: ведь Лев – царь зверей. Когда я реву – а я реву очень громко, вы слышали, – звери и люди убегают с моей дороги. Но если бы на меня напал тигр, я бы испугался, честное слово! Хорошо еще, что никто не знает, какой я трус, – сказал Лев, утирая слезы пушистым кончиком хвоста. – Мне очень стыдно, но я не могу переделать себя.
– Может быть, у тебя сердечная болезнь? – спросил Дровосек.
– Возможно, – согласился Трусливый Лев.
– Счастливый! А у меня так и сердечной болезни не может быть: у меня нет сердца.
– Если бы у меня не было сердца, – задумчиво сказал Лев, – может быть, я и не был бы трусом.
– Скажи, пожалуйста, а ты когда-нибудь дерешься с другими львами? – поинтересовался Тотошка.
– Где уж мне… Я от них бегу, как от чумы, – признался Лев.
– Фу! – насмешливо фыркнул песик. – Куда же ты после этого годен!
– А у тебя есть мозги? – спросил Льва Страшила.
– Есть, вероятно. Я их никогда не видел.
– Моя голова набита соломой, и я иду к Великому Гудвину просить немножечко мозгов, – сказал Страшила.
– А я иду к нему за сердцем, – сказал Железный Дровосек.
– А я иду к нему просить, чтобы он вернул нас с Тотошкой в Канзас…
– Где я сведу счеты с соседским щенком, хвастунишкой Гектором, – добавил песик.
– Гудвин такой могущественный? – удивился Лев.
– Ему это ничего не стоит, – ответила Элли.
– В таком случае не даст ли он мне смелости?
– Ему это так же легко, как дать мне мозги, – заверил Страшила.
– Или мне сердце, – прибавил Железный Дровосек.
– Или вернуть меня в Канзас, – закончила Элли.
– Тогда примите меня в компанию, – сказал Трусливый Лев. – Ах, если бы я мог получить хоть немного смелости… Ведь это мое заветное желание!
– Я очень рада! – сказала Элли. – Это третье желание, и, если исполнятся все три, Гудвин вернет меня на родину. Идем с нами…
– И будь нам добрым товарищем, – сказал Дровосек. – Ты будешь отгонять от Элли других зверей. Должно быть, они еще трусливее тебя, раз бегут от одного твоего рева.
– Они трусы, – проворчал Лев, – да я‑то от этого не становлюсь храбрее.
Путешественники двинулись дальше по дороге, и Лев пошел величавым шагом рядом с Элли. Тотошке и этот спутник сначала не понравился. Он помнил, как Лев хотел проглотить его. Но вскоре он привык ко Льву, и они сделались большими друзьями.
Саблезубые тигры
В этот вечер шли долго и остановились ночевать под развесистым деревом. Железный Дровосек нарубил дров и развел большой костер, около которого Элли чувствовала себя очень уютно. Она и друзей пригласила разделить это удовольствие, но Страшила решительно отказался, ушел от костра подальше и внимательно следил, чтобы ни одна искорка не попала на его костюм.
– Моя солома и огонь – такие вещи, которые не могут быть соседями, – объяснил он.
Трусливый Лев тоже не пожелал приблизиться к костру.
– Мы, дикие звери, не очень-то любим огонь, – сказал Лев. – Теперь, когда я в твоей компании, Элли, я, может быть, и привыкну, но сейчас он меня еще слишком пугает…
Только Тотошка, не боявшийся огня, лежал на коленях у Элли, щурил на костер свои маленькие блестящие глаза и наслаждался его теплом. Элли по-братски разделила с Тотошкой последний кусок хлеба.
– Что я буду теперь есть? – спросила она, бережно собирая крошки.
– Хочешь, я поймаю в лесу лань? – спросил Лев. – Правда, у вас, людей, плохой вкус, и вы предпочитаете жареное мясо сырому, но ты можешь поджарить его на углях.
– О, только никого не убивать! – взмолился Железный Дровосек. – Я буду так плакать о бедной лани, что никакого масла не хватит смазывать мое лицо…
– Как угодно, – пробурчал Лев и отправился в лес. Он вернулся оттуда не скоро, улегся с сытым мурлыканьем поодаль от костра и уставил на пламя свои желтые глаза с узкими щелками зрачков.
Зачем Лев ходил в лесную чашу, никому не было известно. Сам он молчал, а остальные не спрашивали.
Страшила тоже пошел в лес, и ему посчастливилось найти дерево, на котором росли орехи. Он рвал их своими мягкими непослушными пальцами. Орехи выскальзывали у него из рук, и ему приходилось собирать их в траве. В лесу было темно, как в погребе, и только Страшиле, видевшему ночью, как днем, это не причиняло никаких неудобств. Но когда он набирал полную горсть орехов, они вдруг вываливались у него из рук, и все приходилось начинать снова. Все же Страшила с удовольствием собирал орехи, боясь подходить к костру. Только увидев, что костер начинает угасать, он приблизился к Элли с полной корзиной орехов, и девочка поблагодарила его за труды.
Утром Элли позавтракала орехами. Она и Тотошке предложила орехов, но песик с презрением отвернул от них нос: встав спозаранку, он поймал в лесу жирную мышь (к счастью, Дровосек этого не видел).
Путники снова двинулись к Изумрудному городу. Этот день принес им много приключений. Пройдя около часа, они остановились перед оврагом, который тянулся по лесу вправо и влево, насколько хватало глаз.
Овраг был широк и глубок. Когда Элли подползла к его краю и заглянула вниз, у нее закружилась голова, и она невольно отпрянула назад. На дне пропасти лежали острые камни, и между ними журчал невидимый ручей.
Стены оврага были отвесны. Путники стояли опечаленные: им казалось, что путешествие к Гудвину окончилось и придется идти назад. Страшила в недоумении тряс головой. Железный Дровосек схватился за грудь, а Лев огорченно опустил морду.
– Что же делать? – спросила Элли в отчаянии.
– Не имею понятия, – огорченно ответил Железный Дровосек, а Лев в недоумении почесал лапой нос.
Страшила сказал:
– Ух, какая большая яма! Через нее мы не перепрыгнем. Тут нам и сидеть!
– Я бы, пожалуй, перепрыгнул, – сказал Лев, измерив взглядом расстояние.
– Значит, ты перенесешь нас? – догадался Страшила.
– Попробую, – сказал Лев. – Кто осмелится первым?
– Придется мне, – сказал Страшила. – Если ты упадешь, Элли разобьется насмерть, да и Железному Дровосеку плохо будет. А уж я не расшибусь, будьте спокойны!
– Да я‑то сам боюсь свалиться или нет? – сердито перебил Лев разболтавшегося Страшилу. – Ну, раз больше ничего не остается, прыгаю. Садись!
Страшила влез ему на спину, и Лев съежился на краю расселины, готовясь к прыжку.
– Почему ты не разбегаешься? – спросила Элли.
– Это не в наших львиных привычках. Мы прыгаем с места.
Он сделал огромный прыжок и благополучно перескочил на другую сторону. Все обрадовались, и Лев, ссадив Страшилу, тотчас прыгнул обратно.
Следующей села Элли. Держа Тотошку в одной руке, другой она вцепилась в жесткую гриву Льва. Элли взлетела на воздух, и ей показалось, что она снова поднимается на Убивающем Домике. Но не успела она испугаться, как была уже на твердой земле.
Последним переправился Железный Дровосек, чуть не потеряв во время прыжка свою шапку-воронку.
Когда Лев отдохнул, путешественники двинулись дальше по дороге, вымощенной желтым кирпичом. Элли догадалась, что овраг появился, вероятно, от землетрясения уже после того, как провели дорогу к Изумрудному городу. Элли слыхала, что от землетрясений в земле могут образоваться трещины. Правда, отец не рассказывал ей о таких громадных трещинах, но ведь страна Гудвина была совсем особенная, и в ней было не так, как на всем прочем свете.
За оврагом по обеим сторонам дороги потянулся еще более угрюмый лес, и стало темно. Из зарослей послышалось глухое сопение и протяжный рев. Путникам стало жутко, а Тотошка совсем запутался в ногах у Льва, считая теперь, что Лев сильнее Железного Дровосека. Трусливый Лев сообщил спутникам, что в этом лесу живут саблезубые тигры.
– Что это за звери? – осведомился Дровосек.
– Это страшные чудовища, – боязливо прошептал Лев. – Они куда больше обыкновенных тигров, живущих в других частях страны. У них из верхней челюсти торчат клыки как сабли. Такими клыками эти тигры могут проколоть меня, как котенка. Я ужасно боюсь саблезубых тигров…
Все сразу притихли и стали осторожно ступать по желтым кирпичам.
Элли сказала шепотом:
– Я читала в книжке, что у нас в Канзасе саблезубые тигры водились в древние времена, но потом все вымерли, а здесь, видно, живут до сих пор…
– Да вот живут, к несчастью, – отозвался Трусливый Лев. – Я увидел одного издали, так три дня болел от страха…
За этими разговорами путники неожиданно подошли к новому оврагу, который оказался шире и глубже первого. Взглянув на него, Лев отказался прыгать: эта задача была ему не под силу. Все стояли в молчании, не зная, что делать. Вдруг Страшила сказал:
– Вот на краю большое дерево. Пусть Дровосек подрубит его так, чтобы оно упало через пропасть, и у нас будет мост.
– Ловко! – восхитился Лев. – Можно подумать, что все-таки у тебя в голове есть мозги.
– Нет, – скромно отозвался Страшила, на всякий случай пощупав голову, – я просто вспомнил, что так сделал Железный Дровосек, когда мы с ним спасали Элли от Людоеда.
Несколькими мощными ударами топора Железный Дровосек подрубил дерево, потом все путешественники, не исключая Тотошки, уперлись в ствол, кто руками, а кто лапами и лбом. Дерево загремело и упало вершиной на ту сторону рва.
– Ура! – разом крикнули все.
Но едва только путники пошли по стволу, придерживаясь за ветки, как в лесу послышался продолжительный вой, и к оврагу подбежали два свирепых зверя с клыками, торчащими из пасти, как сверкающие белые сабли.
– Саблезубые тигры… – прошептал Лев, дрожа как лист.
– Спокойствие! – закричал Страшила. – Переходите!
Лев, замыкавший шествие, обернулся к тиграм и испустил такое великолепное рычание, что Элли с перепугу чуть не свалилась в пропасть. Даже чудовища остановились и глядели на Льва, не понимая, как такой небольшой зверь может так громко реветь.
Эта задержка дала возможность путникам перейти овраг, и Лев в три прыжка нагнал их. Саблезубые тигры, видя, что добыча ускользает, вступили на мост. Они шли по дереву, то и дело останавливаясь, негромко, но грозно рыча и блестя белыми клыками. Вид их был так страшен, что Лев сказал Элли:
– Мы погибли! Бегите, а я постараюсь задержать этих бестий. Жаль, что я не успел получить от Гудвина хоть немного смелости! Однако буду драться, пока не умру.
В соломенную голову Страшилы в этот день приходили блестящие мысли.
Толкнув Дровосека, он закричал:
– Руби дерево!
Железный Дровосек не заставил себя долго просить. Он наносил своим огромным топором такие отчаянные удары, что в два-три взмаха перерубил верхушку дерева, и ствол с грохотом повалился в пропасть. Громадные звери полетели вместе с ним и разбились об острые камни на дне оврага.
– Ффу! – сказал Лев с глубоким вздохом облегчения и торжественно подал Страшиле лапу. – Спасибо! Поживем еще, а то я совсем было простился с жизнью. Не очень-то приятная штука – попасть на зубы к таким чудовищам. Слышите, как у меня бьется сердце?
– Ах! – печально вздохнул Железный Дровосек. – Хотел бы я, чтобы у меня так билось сердце!
Друзья торопились покинуть мрачный лес, из которого могли выскочить другие саблезубые тигры.
Но Элли так устала и напугалась, что не могла идти. Лев посадил ее и Тотошку к себе на спину, и путники быстро пошли вперед. Как они обрадовались, увидев вскоре, что деревья становятся все реже и тоньше! Солнышко веселыми лучами освещало дорогу, и скоро путники вышли на берег широкой и быстрой реки.
– Теперь уж можно не беспокоиться, – радостно сказал Лев. – Тигры никогда не выходят из своего леса: эти зверюги почему-то боятся открытого пространства…
Все вздохнули свободно, но сейчас же у них появилась новая забота.
– Как же мы переправимся? – сказали Элли, Железный Дровосек, Трусливый Лев и Тотошка, и все разом посмотрели на Страшилу – все уже убедились, что его ум и способности развиваются не по дням, а по часам.
Польщенный общим вниманием, Страшила принял важный вид и приложил палец ко лбу. Думал он не очень долго.
– Ведь река-то не суша, а суша – не река! – важно изрек он. – По реке не пойдешь пешком, значит…
– Значит? – переспросила Элли.
– Значит, Железный Дровосек должен сделать плот, и мы переплывем реку!
– Какой ты умный! – восхищенно воскликнули все.
– Нет, я еще не умный, а только са-мо-от-вер-жен-ный, – возразил Страшила. – Вот когда я получу от Гудвина мозги, тогда перестану быть само-от-вер-жен-ным, а сделаюсь умным.
Дровосек принялся рубить деревья, а сильный Лев стаскивал их к реке. Элли прилегла на траве отдохнуть. Страшиле, по обыкновению, не сиделось на месте. Он разгуливал по берегу реки и нашел деревья со спелыми плодами. Путники решили устроить здесь ночлег.
Элли, поужинав вкусными плодами, заснула под охраной своих верных друзей и во сне видела удивительный Изумрудный город и Великого Волшебника Гудвина.
Переправа через реку
Ночь прошла спокойно. Утром Железный Дровосек докончил плот, срубил шесты для себя и Страшилы и предложил путникам садиться. Элли с Тотошкой на руках устроилась посредине плота. Трусливый Лев ступил на край, плот накренился, и Элли закричала от страха. Но Железный Дровосек и Страшила поспешили вскочить на другой край, и равновесие восстановилось. Железный Дровосек и Страшила погнали плот через реку, за которой начиналась чудесная равнина, кое-где покрытая веселыми рощами и вся освещенная солнцем.
Все шло прекрасно, пока плот не приблизился к середине реки. Здесь быстрое течение подхватило его и понесло по реке, а шесты не доставали дна. Путешественники растерянно смотрели друг на друга.
– Очень скверно! – воскликнул Железный Дровосек. – Река унесет нас в Фиолетовую страну, и мы попадем в рабство к злой волшебнице.
– И я тогда не получу мозгов! – сказал Страшила.
– А я смелости! – сказал Лев.
– А я сердца! – добавил Железный Дровосек.
– А мы никогда не вернемся в Канзас! – закончили Элли и Тотошка.
– Нет, мы должны добраться до Изумрудного города, – вскричал Страшила и налег на шест.
К несчастью, в этом месте оказалась илистая отмель, и шест глубоко воткнулся в нее. Страшила не успел выпустить шест из рук, а плот несло по течению, и через мгновение Страшила уже висел на шесте посреди реки, без опоры под ногами.
– Здравствуйте! – только и успел крикнуть растерявшийся Страшила друзьям, но плот был уже далеко.
Положение Страшилы было отчаянным. «Здесь мне хуже, чем до встречи с Элли, – думал бедняга. – Там я хоть ворон пытался пугать – все-таки занятие. А кто же ставит пугала посреди реки? Ох, кажется, я никогда не получу мозгов!»
Тем временем плот несся вниз по течению. Несчастный Страшила остался далеко позади и скрылся за поворотом реки.
– Придется мне лезть в воду, – молвил Трусливый Лев, задрожав всем телом. – Ух, как я боюсь воды! Вот если бы я получил от Гудвина смелость, мне вода была бы нипочем… Но ничего не поделаешь, надо же добраться до берега. Я поплыву, а вы держитесь за мой хвост.
Лев плыл, пыхтя от напряжения, а Железный Дровосек крепко держался за кончик его хвоста. Трудна была работа – тащить плот, но все же Лев медленно подвигался к другому берегу. Скоро Элли убедилась, что шест достает дно, и начала помогать Льву. После больших усилий, совершенно измученные, путники наконец достигли берега – далеко-далеко от того места, где начали переправу.
Лев тут же растянулся на траве лапами кверху, чтобы просушить намокшее брюхо.
– Куда теперь пойдем? – спросил он, щурясь на солнышко.
– Обратно, туда, где остался наш друг, – ответила Элли. – Ведь не можем же мы уйти отсюда, не выручив нашего милого Страшилу.
Путники пошли берегом против течения реки. Долго брели они, повесив головы и заплетаясь ногами в густой траве, и с грустью думали об оставшемся над рекой товарище. Вдруг Железный Дровосек закричал изо всех сил:
– Смотрите!
И они увидели Страшилу, мужественно висевшего на шесте посреди широкой и быстрой реки. Страшила издали выглядел таким одиноким, маленьким и печальным, что у путников на глаза навернулись слезы. Железный Дровосек разволновался больше всех. Он бесцельно бегал по берегу, рискнул было зачем-то сунуться в воду, но сейчас же отбежал назад. Потом сдернул воронку, приложил ко рту, как рупор, и оглушительно заорал:
– Страшила! Милый друг! Держись! Сделай одолжение, не падай в воду!
Железный Дровосек умел очень вежливо просить.
До путников слабо долетел ответ:
– …жусь!.. огда… е… стаю…
Это означало: «Держусь! Никогда не устаю!»
Вспомнив, что Страшила и в самом деле никогда не уставал, друзья очень ободрились, и Железный Дровосек снова заорал в свою воронку-рупор:
– Не падай духом! Не уйдем отсюда, пока не выручим тебя!
И ветер донес ответ:
– …ду!.. е… нуйтесь… а… ня…
И это означало: «Жду! Не волнуйтесь за меня!»
Железный Дровосек предложил сплести длинную веревку из древесной коры. Потом он, Дровосек, полезет в воду и снимет Страшилу, а Лев вытащит их за веревку. Но Лев насмешливо покачал головой:
– Ты ведь плаваешь не лучше топора!
Железный Дровосек сконфуженно замолчал.
– Должно быть, придется мне опять плыть, – сказал Лев. – Только трудно будет так рассчитать, чтобы течение принесло меня прямо к Страшиле…
– А я сяду к тебе на спину и буду тебя направлять! – предложил Тотошка.
Пока путники судили да рядили, издали на них с любопытством поглядывал длинноногий важный Аист. Потом он потихоньку подошел и стал на безопасном расстоянии, поджав правую ногу и прищурив левый глаз.
– Что вы за публика? – спросил он.
– Я Элли, а это мои друзья – Железный Дровосек, Трусливый Лев и Тотошка. Мы идем в Изумрудный город.
– Дорога в Изумрудный город не здесь, – заметил Аист.
– Мы знаем ее. Но нас унесла река, и мы потеряли товарища.
– А где он?
– Вон он, видишь, – Элли показала, – висит на шесте.
– Зачем он туда забрался?
Аист был обстоятельной птицей и хотел знать все до мельчайших подробностей. Элли рассказала, как Страшила оказался посреди реки.
– Ах, если бы ты его спас! – вскричала Элли и умоляюще сложила руки. – Как бы мы были тебе благодарны!
– Я подумаю, – важно сказал Аист и закрыл правый глаз, потому что аисты, когда думают, обязательно закрывают правый глаз. Но левый глаз он закрыл еще раньше. И вот он стоял с закрытыми глазами на левой ноге и покачивался, а Страшила висел на шесте посреди реки и тоже покачивался от ветра. Путникам надоело ждать, и Железный Дровосек сказал:
– Послушаю я, о чем он думает, – и потихоньку подошел к Аисту.
Но до него донеслось ровное, с присвистом, дыхание Аиста, и Дровосек удивленно крикнул:
– Да он спит!
Аист и в самом деле заснул, пока думал.
Лев ужасно разгневался и рявкнул:
– Я его съем!
Аист спал чутко и вмиг открыл глаза.
– Вам кажется, что я сплю? – схитрил он. – Нет, я просто задумался. Такая трудная задача… Но, пожалуй, я перенес бы вашего товарища на берег, не будь он такой большой и тяжелый.
– Это он-то тяжелый? – вскричала Элли. – Да ведь Страшила набит соломой и легкий как перышко! Даже я его поднимаю.
– В таком случае я попытаюсь! – сказал Аист. – Но смотрите, если он окажется слишком тяжел, я брошу его в воду. Хорошо бы сначала свешать вашего друга на весах, но так как это невозможно, то я лечу.
Как видно, Аист был очень осторожной и обстоятельной птицей.
Аист взмахнул широкими крыльями и полетел к Страшиле. Он вцепился ему в плечи крепкими когтями, легко поднял и перенес на берег, где сидела Элли с друзьями.
Когда Страшила вновь очутился на берегу, он горячо обнял друзей и потом обратился к Аисту:
– Я думал, мне вечно придется торчать на шесте посреди реки и пугать рыб! Сейчас я не могу поблагодарить тебя как следует, потому что у меня в голове солома. Но, побывав у Гудвина, я разыщу тебя, и ты узнаешь, какова благодарность человека с мозгами.
– Очень рад, – солидно отвечал Аист. – Я люблю помогать другим в несчастье, особенно когда это не стоит мне большого труда… Однако заболтался я с вами. Меня ждут жена и дети. Желаю вам дойти благополучно до Изумрудного города и получить то, за чем идете!
И он вежливо подал каждому путнику свою красную морщинистую лапу, и каждый путник дружески пожал ее, а Страшила так тряс, что чуть не оторвал.
Аист улетел, а путешественники пошли по берегу. Счастливый Страшила шел, приплясывая, и пел:
– Эй-гей-гей-го! Я снова с Элли!
Потом, через три шага:
– Эй-гей-гей-го! Я снова с Железным Дровосеком!
И так он перебирал всех, не исключая и Тотошки, а потом снова начинал свою нескладную, но веселую и добродушную песенку.
Коварное маковое поле
Путники весело шли по лугу, усеянному великолепными белыми и голубыми цветами. Часто попадались красные маки невиданной величины с очень сильным ароматом. Всем было весело: Страшила был спасен, ни Людоед, ни овраги, ни саблезубые тигры, ни быстрая река не остановили друзей на пути к Изумрудному городу, и они предполагали, что все опасности остались позади.
– Какие чудные цветы! – воскликнула Элли.
– Они хороши! – молвил Страшила. – Конечно, будь у меня мозги, я восхищался бы цветами больше, чем теперь.
– А я бы полюбил их, если бы у меня было сердце, – вздохнул Железный Дровосек.
– Я всегда был в дружбе с цветами, – сказал Трусливый Лев. – Они милые и безобидные создания и никогда не выскакивают на тебя из-за угла, как эти страшные саблезубые тигры. Но в моем лесу не было таких больших и ярких цветов.
Чем дальше шли путники, тем больше становилось в поле маков. Все другие цветы исчезли, заглушенные зарослями мака. И скоро путешественники оказались среди необозримого макового поля. Запах мака усыпляет, но Элли этого не знала и продолжала идти, беспечно вдыхая сладковатый усыпляющий аромат и любуясь огромными красными цветами. Веки ее отяжелели, и ей ужасно захотелось спать. Однако Железный Дровосек не позволил ей прилечь.
– Надо спешить, чтобы к ночи добраться до дороги, вымощенной желтым кирпичом, – сказал он, и Страшила поддержал его.
Они прошли еще несколько сот шагов, но Элли не могла больше бороться со сном – шатаясь, она опустилась среди маков, со вздохом закрыла глаза и крепко заснула.
– Что же с ней делать? – спросил в недоумении Дровосек.
– Если Элли останется здесь, она будет спать, пока не умрет, – сказал Лев, широко зевая. – Аромат этих цветов смертелен. У меня тоже слипаются глаза, а собачка уже спит.
Тотошка действительно лежал на ковре из маков возле своей маленькой хозяйки. Только на Страшилу и Железного Дровосека не действовал губительный запах цветов, и они были бодры, как всегда.
– Беги! – сказал Страшила Трусливому Льву. – Спасайся из этого опасного места. Мы донесем девочку, а если ты заснешь, нам с тобой не справиться. Ведь ты слишком тяжел.
Лев прыгнул вперед и мигом скрылся из глаз. Железный Дровосек и Страшила скрестили руки и посадили на них Элли. Они сунули Тотошку в руки сонной девочки, и та бессознательно вцепилась в его мягкую шерсть. Страшила и Железный Дровосек шли среди макового поля по широкому примятому следу, оставленному Львом, и им казалось, что полю не будет конца.
Но вот вдали показались деревья и зеленая трава. Друзья облегченно вздохнули: они боялись, что долгое пребывание в отравленном воздухе убьет Элли. На краю макового поля они увидели Льва. Аромат цветов победил мощного зверя, и он спал, широко раскинув лапы в последнем усилии достигнуть спасительного луга.
– Мы не сможем ему помочь! – печально сказал Железный Дровосек. – Он слишком тяжел для нас. Теперь он заснул навсегда, и, быть может, ему снится, что он наконец получил смелость…
– Очень, очень жаль! – сказал Страшила. – Несмотря на свою трусость, Лев был добрым товарищем, и мне горько покинуть его здесь, среди проклятых маков. Но идем, надо спасать Элли.
Они вынесли спящую девочку на зеленую лужайку у реки, подальше от смертоносного макового поля, положили на траву и сели рядом, дожидаясь, когда свежий воздух разбудит Элли.
Пока друзья сидели и смотрели по сторонам, невдалеке заколыхалась трава, и на лужайку выскочил желтый дикий кот. Оскалив острые зубы и прижав уши к голове, он гнался за добычей. Железный Дровосек вскочил и увидел бегущую серую полевую мышь. Кот занес над ней когтистую лапу, и мышка, отчаянно пискнув, закрыла глаза, но Железный Дровосек сжалился над беззащитным созданием и отрубил голову дикому коту. Мышка открыла глаза и увидела, что враг мертв. Она сказала Железному Дровосеку:
– Благодарю вас! Вы спасли мне жизнь.
– О, полно, не стоит говорить об этом, – возразил Железный Дровосек, которому, по правде, неприятно было оттого, что пришлось убить кота. – Вы знаете, у меня нет сердца, но я всегда стараюсь помочь в беде слабому, будь это даже простая мышь.
– Простая мышь? – в негодовании пискнула мышка. – Что вы хотите сказать этим, сударь? Да знаете ли вы, что я – Рамина, королева полевых мышей?
– О, в самом деле? – вскричал пораженный Дровосек. – Тысяча извинений, ваше величество!
– Во всяком случае, спасая мне жизнь, вы исполнили свой долг, – сказала королева, смягчаясь.
В этот момент несколько мышей, запыхавшись, выскочили на полянку и со всех ног бросились к королеве.
– О, ваше величество! – наперебой запищали они. – Мы думали, что вы погибли, и приготовились оплакивать вас! Но кто убил злого кота? – И они так низко поклонились маленькой королеве, что стали на головы и задние лапки их заболтались в воздухе.
– Его разрубил вот этот странный железный человек. Вы должны служить ему и исполнять его желания, – важно сказала Рамина.
– Пусть он приказывает! – хором закричали мыши. Но в тот же момент они во главе с самой королевой пустились врассыпную. Дело в том, что Тотошка, открыв глаза и увидев вокруг себя мышей, издал восхищенный вопль и ринулся в середину стаи. Еще в Канзасе он славился как великий охотник на мышей, и ни один кот не мог сравниться с ним в ловкости. Но Железный Дровосек схватил песика и закричал мышам:
– Сюда! Сюда! Обратно! Я держу его!
Королева мышей высунула голову из густой травы и боязливо спросила:
– Вы уверены, что он не съест меня и моих придворных?
– Успокойтесь, ваше величество! Я его не выпущу!
Мыши собрались снова, и Тотошка после бесполезных попыток вырваться из железных рук Дровосека утихомирился. Чтобы песик больше не пугал мышей, его пришлось привязать к колышку, вбитому в землю.
Главная фрейлина-мышь заговорила:
– Великодушный незнакомец! Чем прикажете отблагодарить вас за спасение королевы?
– Я, право, теряюсь, – начал Железный Дровосек, но находчивый Страшила быстро перебил его:
– Спасите нашего друга Льва! Он в маковом поле!
– Лев! – вскричала королева. – Он съест всех нас.
– О нет! – ответил Страшила. – Это Трусливый Лев, он очень смирен, да, кроме того, он ведь спит.
– Ну что же, попробуем. Как это сделать?
– Много ли мышей в вашем королевстве?
– О, целые тысячи!
– Велите собрать их всех и пусть каждая принесет с собой длинную нитку.
Королева Рамина отдала приказ придворным, и они с таким усердием кинулись по всем направлениям, что только лапки замелькали.
– А ты, друг, – обратился Страшила к Железному Дровосеку, – сделай прочную тележку – вывезти Льва из маков.
Железный Дровосек принялся за дело и работал с таким рвением, что, когда появились первые мыши с длинными нитками в зубах, крепкая тележка с колесами из цельных деревянных обрубков была готова.
Мыши сбегались отовсюду; их было многие тысячи, всех величин и возрастов: тут собрались и маленькие мыши, и средние мыши, и большие старые мыши. Одна дряхлая старушка мышь приплелась на полянку с большим трудом и, поклонившись королеве, тотчас свалилась лапками вверх. Две внучки уложили бабушку на лист лопуха и усердно махали над ней травинками, чтобы ветерок привел ее в чувство.
Трудно было запрячь в телегу такое множество мышей: пришлось привязать к передней оси целые тысячи ниток. Притом Дровосек и Страшила торопились, боясь, что Лев умрет в маковом поле, и нитки путались у них в руках. Да еще некоторые молодые шаловливые мышки перебегали с места на место и запутывали упряжку. Наконец, каждая нитка была одним концом привязана к телеге, а другим – к мышиному хвосту, и порядок установился.
В это время проснулась Элли и с удивлением смотрела на странную картину. Страшила в немногих словах рассказал ей о том, что случилось, и обратился к королеве-мыши:
– Ваше величество! Позвольте представить вам Элли – фею Убивающего Домика.
Две высокие особы вежливо раскланялись и завязали дружеский разговор…
Приготовления кончились.
Нелегко было двум друзьям взвалить тяжелого Льва на телегу. Но они все же подняли его, и мыши с помощью Страшилы и Железного Дровосека вывезли телегу с макового поля.
Лев был перевезен на полянку, где сидела Элли под охраной Тотошки. Девочка сердечно благодарила мышей за спасение верного друга, которого успела сильно полюбить.
Мыши перегрызли нитки, привязанные к их хвостам, и поспешили к своим домам. Королева-мышь подала девочке крошечный серебряный свисточек.
– Если я буду вам нужна снова, – сказала Рамина, – свистните трижды в этот свисток, и я – к вашим услугам. До свиданья!
– До свиданья! – ответила Элли.
Но в это время Тотошка сорвался с привязи, и Рамине пришлось спасаться в густой траве с поспешностью, совсем неприличной для королевы.
* * *
Путники терпеливо ждали, когда проснется Трусливый Лев, он слишком долго дышал отравленным воздухом макового поля. Но Лев был крепок и силен, и коварные маки не смогли убить его. Он открыл глаза, несколько раз широко зевнул и попробовал потянуться, но перекладины телеги помешали ему.
– Где я? Разве я еще жив?
Увидев друзей, Лев страшно обрадовался и скатился с телеги.
– Расскажите, что случилось? Я изо всех сил бежал по маковому полю, но с каждым шагом лапы мои становились все тяжелее, усталость свалила меня, и дальше я ничего не помню.
Страшила рассказал, как мыши вывезли Льва с макового поля. Лев покачал головой.
– Как это удивительно! Я всегда считал себя очень большим и сильным. И вот цветы, такие ничтожные по сравнению со мной, чуть не убили меня, а жалкие, маленькие существа, мыши, на которых я всегда смотрел с презрением, спасли меня! А все это потому, что их много, они действуют дружно и становятся сильнее меня, Льва, царя зверей! Но что мы будем делать, друзья мои?
– Продолжать путь к Изумрудному городу, – ответила Элли. – Три заветных желания должны быть выполнены, и это откроет мне путь на родину!
На кого похож Гудвин?
Когда Лев оправился, вся компания весело двинулась в путь. По мягкой зеленой траве они вышли к дороге, вымощенной желтым кирпичом, и обрадовались ей, как милому старому другу.
Скоро по сторонам дороги появились красивые изгороди, за ними стояли фермерские домики, а на полях работали мужчины и женщины. Изгороди и дома были выкрашены в красивый ярко-зеленый цвет, и люди носили зеленую одежду.
– Это значит, началась Изумрудная страна, – сказал Железный Дровосек.
– Почему? – спросил Страшила.
– Разве ты не знаешь, что изумруд – зеленый?
– Я ничего не знаю, – с гордостью возразил Страшила. – Вот когда у меня будут мозги, тогда я все буду знать!
Жители Изумрудной страны ростом были не выше Жевунов. На головах у них были такие же широкополые шляпы с острым верхом, но без серебряных бубенчиков. Казалось, они были неприветливы: никто не подходил к Элли и даже издали не обращался к ней с вопросами. На самом деле они просто боялись большого грозного Льва и маленького Тотошки.
– Думаю я, что нам придется ночевать в поле, – заметил Страшила.
– А мне хочется есть, – сказала девочка. – Фрукты здесь хороши, а все-таки надоели мне так, что я их видеть не могу и всех их променяла бы на корочку хлеба! И Тотошка отощал совсем… Что ты, бедненький, ешь?
– Да так, что придется… – уклончиво отвечал песик.
Он совсем не хотел признаться, что каждую ночь сопровождал Льва на охоту и питался остатками его добычи.
Завидев домик, на крыльце которого стояла хозяйка, казавшаяся приветливее других жительниц селения, Элли решила попроситься на ночлег. Оставив приятелей за забором, она смело подошла к крыльцу. Женщина спросила:
– Что тебе нужно, дитя?
– Пустите нас, пожалуйста, переночевать!
– Но с тобой лев!
– Не бойтесь его: он ручной, да и, кроме того, трус!
– Если это так, входите, – ответила женщина, – вы получите ужин и постели.
Компания вошла в дом, удивив и перепугав детей и хозяина дома. Когда прошел всеобщий испуг, хозяин спросил:
– Кто вы такие и куда идете?
– Мы идем в Изумрудный город, – ответила Элли, – и хотим увидеть Великого Гудвина.
– О, неужели? Уверены ли вы, что Гудвин захочет вас видеть?
– А почему нет?
– Видите ли, он никого не принимает. Я много раз бывал в Изумрудном городе, это удивительное и прекрасное место, но мне никогда не удавалось увидеть Великого Гудвина, и я знаю, что его никто никогда не видел…
– Разве он не выходит?
– Нет. И день и ночь он сидит в большом тронном зале своего дворца, и даже те, кто ему прислуживает, не видят его лица.
– На кого же он похож?
– Трудно сказать, – задумчиво ответил хозяин. – Дело в том, что Гудвин – Великий Мудрец и может принимать любой вид. Иногда он появляется в виде птицы или леопарда, а то вдруг оборотится кротом. Иные видели его в образе рыбы или мухи и во всяком другом виде, какой ему заблагорассудится принять. Но каков его настоящий вид – не знает никто из людей.
– Это поразительно и страшно, – сказала Элли. – Но мы попытаемся увидеть его, иначе наше путешествие окажется напрасным.
– Зачем вы хотите увидеть Гудвина Ужасного? – спросил хозяин.
– Я хочу попросить у него немножечко мозгов для моей соломенной головы, – отвечал Страшила.
– О, для него это сущие пустяки! Мозгов у него гораздо больше, чем ему требуется. Они все разложены по кулькам, и в каждом кульке – особый сорт.
– А я хочу, чтобы он дал мне сердце, – промолвил Дровосек.
– И это ему нетрудно, – отвечал хозяин, лукаво подмигивая. – У него на веревочке сушится целая коллекция сердец всевозможных форм и размеров.
– А я хотел бы получить от Гудвина смелость, – сказал Лев.
– У Гудвина в тронной комнате большой горшок смелости, – объявил хозяин. – Он накрыт золотой крышкой, и Гудвин смотрит, чтобы смелость не перекипела через край. Конечно, он с удовольствием даст вам порцию.
Все три друга, услышав обстоятельные разъяснения хозяина, просияли и с довольными улыбками посматривали один на другого.
– А я хочу, – сказала Элли, – чтобы Гудвин вернул нас с Тотошкой в Канзас.
– Где это Канзас? – спросил удивленный хозяин.
– Я не знаю, – печально отвечала Элли. – Но это моя родина, и она где-нибудь да есть.
– Ну, я уверен, что Гудвин найдет для тебя Канзас. Но надо сначала увидеть его самого, а это нелегкая задача. Гудвин не любит показываться, и, очевидно, у него есть на этот счет свои соображения, – добавил хозяин шепотом и огляделся по сторонам, как бы боясь, что Гудвин вот-вот выскочит из-под кровати или из шкафа.
Всем было немножко жутко, а Лев чуть не ушел на улицу: он считал, что там безопаснее.
Ужин был подан, и все сели за стол. Элли ела восхитительную гречневую кашу, и яичницу, и черный хлеб; она была очень рада этим кушаньям, напоминавшим ей далекую родину. Льву тоже дали каши, но он съел ее с отвращением и сказал, что это кушанье для кроликов, а не для Львов. Страшила и Дровосек ничего не ели. Тотошка съел свою порцию и попросил еще.
Женщина уложила Элли в постель, и Тотошка устроился рядом со своей маленькой хозяйкой. Лев растянулся у порога комнаты и сторожил, чтобы никто не вошел, Железный Дровосек и Страшила простояли всю ночь в уголке, изредка разговаривая шепотом.
Часть вторая. Великий и ужасный
Изумрудный город
На следующее утро после нескольких часов пути друзья увидели на горизонте слабое зеленое сияние.
– Это, должно быть, Изумрудный город, – сказала Элли.
По мере того как они шли, сияние становилось ярче и ярче, но только после полудня путники подошли к высокой городской стене, сложенной из кирпича. Перед ними были большие ворота, украшенные огромными изумрудами, сверкающими так ярко, что они ослепили даже нарисованные глаза Страшилы. У этих ворот кончилась дорога, вымощенная желтым кирпичом, которая много дней верно вела их и наконец привела к долгожданной цели.
Над воротами висел колокол, а рядом, над калиткой, другой, поменьше. Элли трижды дернула за веревку большого колокола, и он ответил глубоким серебристым звоном. Ворота открылись, и путники вошли в сводчатую комнату, на стенах которой блестело множество изумрудов.
Путников встретил маленький человек, с ног до головы одетый в зеленое; на боку у него висела зеленая сумка.
Зеленый человек очень удивился, увидев такую странную компанию, и спросил:
– Кто вы такие?
– Я соломенное чучело, и мне нужны мозги! – сказал Страшила.
– А я сделан из железа, и мне недостает сердца, – сказал Дровосек.
– А я Трусливый Лев и желаю получить храбрость, – сказал Лев.
– А я Элли из Канзаса и хочу вернуться на родину, – сказала Элли.
– Зачем же вы пришли в Изумрудный город?
– Мы хотим видеть Великого Гудвина! Мы надеемся, что он исполнит наши желания: ведь, кроме Волшебника, никто не может нам помочь.
– Много лет никто не просил у меня пропуска к Гудвину Ужасному, – задумчиво сказал человечек. – Он могуч и грозен, и, если вы пришли с пустой и коварной целью отвлечь Волшебника от мудрых размышлений, он уничтожит вас в одно мгновение.
– Но мы ведь пришли к Великому Гудвину по важным делам, – внушительно сказал Страшила. – И мы слышали, что Гудвин – добрый мудрец.
– Это так, – сказал зеленый человечек. – Он управляет Изумрудным городом мудро и хорошо. Однако для тех, кто приходит в город из пустого любопытства, он ужасен. Я Страж Ворот Фарамант, и, раз вы пришли, я должен провести вас к Гудвину, только наденьте очки.
– Очки? – удивилась Элли.
– Без очков вас ослепит великолепие Изумрудного города. Даже все жители города носят очки и день и ночь. Таков приказ Мудрого Гудвина. Очки запираются на замочек, чтобы никто не мог снять их.
Фарамант открыл зеленую сумку, и там оказалась куча зеленых очков всевозможных размеров. Все путники, не исключая Льва и Тотошки, оказались в очках, которые Страж Ворот закрыл на затылке крошечными замочками.
Страж Ворот тоже надел очки, вывел притихших путников через противоположную дверь, и они оказались на улице Изумрудного города.
Блеск Изумрудного города ослепил путников, хотя глаза их были защищены очками. По бокам улицы возвышались великолепные дома из зеленого мрамора, стены которых были украшены изумрудами. Мостовая была из зеленых мраморных плит, и между ними тоже были вделаны изумруды. На улицах толпился народ.
На странных товарищей Элли жители смотрели с любопытством, но никто из них не заговаривал с девочкой: и здесь боялись Льва и Тотошки. Жители города были в зеленой одежде, и кожа их отливала смугло-зеленоватым оттенком. Все было зеленого цвета в Изумрудном городе, и даже солнце светило зелеными лучами.
Фарамант провел путников по зеленым улицам, и они очутились перед большим красивым зданием, расположенным в центре города. Это и был дворец Великого Мудреца и Волшебника Гудвина.
Сердце Элли затрепетало от волнения и страха, когда она шла по дворцовому парку, украшенному фонтанами и клумбами; сейчас решится ее судьба, сейчас она узнает, отправит ли Волшебник Гудвин ее на родину или она напрасно стремилась сюда, преодолев столько испытаний.
Дворец Гудвина был хорошо защищен от врагов: его окружала высокая стена, а перед ней был ров, наполненный водой, и через ров в случае надобности можно было перекинуть мост.
Когда Фарамант и путники подошли ко рву, мост был поднят. На стене стоял высокий Солдат, одетый в зеленый мундир. Зеленая борода Солдата спускалась ниже колен. Он ужасно гордился своей бородой, и неудивительно: другой такой не было в стране Гудвина. Завистники говорили, что у Солдата не было никаких достоинств, кроме бороды, и что только борода поставила его в то высокое положение, которое он занимал.
В руках у Солдата было зеркальце и гребешок. Он смотрелся в зеркальце и расчесывал гребешком свою великолепную бороду, и это занятие настолько поглощало его внимание, что он ничего не видел и не слышал.
– Дин Гиор! – крикнул Солдату Страж Ворот. – Я привел чужестранцев, которые хотят видеть Великого Гудвина!
Никакого ответа.
Страшила закричал своим хрипловатым голосом:
– Господин Солдат, впустите нас, знаменитых путешественников, победителей саблезубых тигров и отважных пловцов по рекам!
Никакого ответа.
– Кажется, ваш друг страдает рассеянностью? – спросила Элли.
– Да, к сожалению, это за ним водится, – отвечал Фарамант.
– Почтеннейший! Обратите на нас внимание! – крикнул Дровосек. – Нет, не слышит. Давайте-ка все хором!..
Все приготовились, а Дровосек даже поднес ко рту свою воронку вместо рупора. По знаку Страшилы все заорали что было мочи:
– Гос-по-дин Сол-дат! Впу-сти-те нас! Гос-по-дин Солдат!! Впу-сти-те нас!!!
Страшила оглушительно колотил по перилам рва своей тростью, а Тотошка звонко лаял. Никакого впечатления. Солдат по-прежнему любовно укладывал в своей бороде волосок к волоску.
– Я вижу, мне придется рявкнуть по-лесному, – сказал Лев.
Он покрепче уперся на лапах, поднял голову и испустил такой рык, что зазвенели стекла домов, вздрогнули цветы, выплеснулась вода из бассейнов, а любопытные, издали наблюдавшие за странной компанией, врассыпную бросились бежать, заткнув уши. Спрятав гребешок и зеркальце в карман, Солдат свесился со стены и с удивлением начал рассматривать пришельцев. Узнав среди них Стража Ворот, он вздохнул с облегчением.
– Это ты, Фарамант? – спросил он. – В чем дело?
– Дело в том, Дин Гиор, – сердито ответил Страж Ворот, – что мы целых полчаса не могли докричаться тебя!
– А, только полчаса? – беспечно отозвался Солдат. – Ну, это сущие пустяки. Лучше скажи мне, кто это с тобой?
– Это чужестранцы, которые хотят видеть Великого Гудвина!
– Ну что ж, пусть войдут, – со вздохом сказал Дин Гиор. – Я доложу о них Великому Гудвину…
Он опустил мост, и путники, попрощавшись с Фарамантом, перешли через мост и очутились во дворце. Их ввели в приемную. Солдат попросил их вытереть ноги о зеленый половичок у входа и усадил в зеленые кресла.
– Побудьте здесь, а я пойду к двери тронного зала и доложу Великому Гудвину о вашем прибытии.
Через несколько минут Дин Гиор вернулся, и Элли спросила его:
– Видели Гудвина?
– О нет, я его никогда не вижу! – последовал ответ. – Великий Гудвин всегда говорит со мной из-за двери: вероятно, вид его так страшен, что Волшебник не хочет попусту пугать людей. Я доложил о вашем приходе. Сначала Гудвин рассердился и не хотел меня слушать. Потом вдруг стал расспрашивать о том, как вы одеты. А когда узнал, что на вас серебряные башмачки, то чрезвычайно заинтересовался этим и сказал, что примет вас всех. Но каждый день к нему допускается только один проситель – таков его обычай. И так как вы проживете здесь несколько дней, он приказал отвести вам комнаты, чтобы вы отдохнули от долгого пути.
– Передайте нашу благодарность Великому Гудвину, – ответила Элли.
Девочка решила, что Волшебник не так страшен, как говорят, и что он вернет ее на родину.
Дин Гиор свистнул в зеленый свисточек, и явилась красивая девушка в зеленом шелковом платье. У нее была красивая гладкая зеленая кожа, зеленые глаза и пышные зеленые волосы. Флита (так звали девушку) низко поклонилась Элли и сказала:
– Идите за мной, я отведу вас в вашу комнату.
Они прошли по богатым покоям, много раз спускались и поднимались по лестницам, и наконец Элли очутилась в отведенной ей комнате. Это была самая восхитительная и уютная комната в мире, с маленькой кроватью, с фонтаном посредине, из которого била тоненькая струйка воды, падавшая в красивый бассейн. Конечно, и здесь все было зеленого цвета.
– Располагайтесь, как дома, – сказала Флита. – Великий Гудвин примет вас завтра утром.
Оставив Элли, девушка развела остальных путешественников по их комнатам. Комнаты были прекрасно обставлены и находились в лучшей части дворца.
Впрочем, на Страшилу окружающая роскошь не произвела никакого впечатления. Очутившись в своей комнате, он стал около двери с самым равнодушным видом и простоял, не сходя с места, до самого утра. Всю ночь он таращил глаза на паучка, который так беззаботно плел паутину, как будто находился не в прекраснейшем дворце, а в бедной лачужке сапожника.
Железный Дровосек хотя и лег в постель, но сделал это по привычке тех времен, когда он был еще из плоти и крови. Но и он не спал всю ночь, то и дело двигая головой, руками и ногами, чтобы убедиться, что они не заржавели.
Лев с удовольствием улегся бы на заднем дворе, на подстилке из соломы, но ему этого не позволили. Он забрался на кровать, свернулся клубком, как кот, и захрапел на весь дворец. Его громкому храпу вторил тоненький храп Тотошки, который на этот раз решил поместиться вместе со своим могучим другом.
Удивительные превращения волшебника Гудвина
Наутро Флита умыла и причесала Элли и повела ее в тронный зал Гудвина.
В зале рядом с тронным собрались придворные кавалеры и дамы в нарядных костюмах. Гудвин никогда не выходил к ним и не принимал их у себя. Однако в продолжение многих лет они каждое утро проводили во дворце, пересмеиваясь и сплетничая; называли это придворной службой и очень гордились ею.
Придворные посмотрели на Элли с удивлением и, заметив на ней серебряные башмачки, отвесили ей поклоны до самой земли.
– Фея… Фея… Это Фея… – послышался шепот.
Один из самых смелых придворных приблизился к Элли и, беспрестанно кланяясь, спросил:
– Осмелюсь осведомиться, милостивая госпожа Фея, неужели вы действительно удостоитесь приема у Гудвина Ужасного?
– Да, Гудвин хочет меня видеть, – скромно ответила Элли.
В толпе пронесся гул удивления. В это время зазвенел колокольчик.
– Сигнал! – сказала Флита. – Гудвин требует вас в тронный зал.
Солдат открыл дверь. Элли робко вошла и очутилась в удивительном месте. Тронный зал Гудвина был круглый, с высоким сводчатым потолком; и повсюду – на полу, на потолке, на стенах – блестели бесчисленные драгоценные камни.
Элли посмотрела вперед. В центре комнаты стоял трон из зеленого мрамора, сияющий изумрудами. И на этом троне лежала огромная Живая Голова, одна голова, без туловища…
Голова имела настолько внушительный вид, что Элли обомлела от страха. Лицо Головы было гладкое и лоснящееся, с полными щеками, с огромным носом, с крупными, плотно сжатыми губами. Голый череп сверкал, как выпуклое зеркало. Голова казалась безжизненной: ни морщины на лбу, ни складки у губ, и на всем лице жили только глаза. Они с непонятным проворством повернулись в орбитах и уставились в потолок. Когда глаза вращались, в тишине зала слышался скрип, и это поразило Элли.
Девочка смотрела на непонятное движение глаз и так растерялась, что забыла поклониться Голове.
– Я – Гудвин, Великий и Ужасный! Кто ты такая и зачем беспокоишь меня?
Элли заметила, что рот Головы не двигается и голос, негромкий и даже приятный, слышится как будто со стороны.
Девочка приободрилась и ответила:
– Я – Элли, маленькая и слабая. Я пришла издалека и прошу у вас помощи.
Глаза снова повернулись в орбитах и застыли, глядя в сторону; казалось, они хотели посмотреть на Элли, но не могли.
Голос спросил:
– Откуда у тебя серебряные башмачки?
– Из пещеры злой волшебницы Гингемы. На нее упал мой домик, раздавил ее, и теперь славные Жевуны свободны…
– Жевуны освобождены? – оживился голос. – И Гингемы больше нет? Приятное известие! – Глаза Головы завертелись и наконец уставились на Элли. – Но чего же ты от меня хочешь?
– Пошлите меня на родину, в Канзас, к папе и маме…
– Ты из Канзаса? – перебил голос, и в нем послышались добрые человеческие нотки. – А как там сейчас… – Но голос вдруг умолк, а глаза Головы отвернулись от Элли.
– Я из Канзаса, – повторила девочка. – Хоть ваша страна и великолепна, но я не люблю ее, – храбро продолжала она. – Здесь на каждом шагу такие опасности.
– А что с тобой приключилось? – поинтересовался голос.
– Дорогой на меня напал Людоед. Он съел бы меня, если бы меня не выручили мои верные друзья, Страшила и Железный Дровосек. А потом за нами гнались саблезубые тигры… А потом мы попали в ужасное маковое поле… Ох, это настоящее сонное царство! Мы со Львом и Тотошкой заснули там. И если бы не Страшила и Железный Дровосек, да еще мыши, мы спали бы там до тех пор, пока не умерли… Да всего этого хватит рассказывать на целый день. И теперь я вас прошу: исполните, пожалуйста, три заветных желания моих друзей, и когда вы их исполните, вы и меня должны будете вернуть домой.
– А почему я должен буду вернуть тебя домой?
– Потому что так написано в волшебной книге Виллины…
– А, это добрая волшебница Желтой страны, слыхал о ней, – молвил голос. – Ее предсказания не всегда исполняются.
– И еще потому, – продолжала Элли, – что сильные должны помогать слабым. Вы великий мудрец и волшебник, а я беспомощная маленькая девочка.
– Ты оказалась достаточно сильной, чтобы убить злую волшебницу, – возразила Голова.
– Это сделало волшебство Виллины, – просто ответила девочка. – Я тут ни при чем.
– Вот мой ответ, – сказала Живая Голова, и глаза ее завертелись с такой необычайной быстротой, что Элли вскрикнула от испуга. – Я ничего не делаю даром. Если хочешь воспользоваться моим волшебным искусством, чтобы вернуться домой, ты должна сделать то, что я тебе прикажу.
Глаза Головы мигнули много раз подряд. Несмотря на испуг, Элли с интересом следила за глазами и ждала, что они будут делать дальше. Движения глаз совершенно не соответствовали словам Головы и тону ее голоса, и девочке казалось, что глаза живут самостоятельной жизнью.
Голова ждала вопроса.
– Но что я должна сделать? – спросила удивленная Элли.
– Освободи Фиолетовую страну от власти злой волшебницы Бастинды, – ответила Голова.
– Но я же не могу! – вскричала Элли в испуге.
– Ты покончила с рабством Жевунов и сумела получить волшебные серебряные башмачки Гингемы. Осталась одна злая волшебница в моей стране, и под ее властью изнывают бедные, робкие Мигуны, жители Фиолетовой страны. Нужно им тоже дать свободу…
– Но как же это сделать? – спросила Элли. – Ведь не могу же я убить волшебницу Бастинду!
– Гм, гм… – голос на мгновение запнулся. – Мне это безразлично. Можно посадить ее в клетку, можно изгнать из Фиолетовой страны, можно… Да в конце концов, – рассердился голос, – ты на месте увидишь, что можно сделать! Важно лишь избавить от ее владычества Мигунов, а судя по тому, что ты рассказала о себе и своих друзьях, вы сможете и должны это сделать. Так сказал Гудвин, Великий и Ужасный, и слово его – закон!
Девочка заплакала.
– Вы требуете от нас невозможного!
– Всякая награда должна быть заслужена, – сухо возразила Голова. – Вот мое последнее слово: ты вернешься в Канзас к отцу и матери, когда освободишь Мигунов. Помни, что Бастинда – волшебница могущественная и злая, ужасно могущественная и злая, и надо лишить ее волшебной силы. Иди и не возвращайся ко мне, пока не выполнишь свою задачу.
Грустная Элли оставила тронный зал и вернулась к друзьям, которые с беспокойством ожидали ее.
– Нет надежды! – сказала девочка со слезами. – Гудвин приказал мне лишить злую Бастинду ее волшебной силы, а мне этого никогда не сделать!..
Все опечалились, но никто не мог утешить Элли. Она вошла в свою комнату и плакала, пока не уснула.
На следующее утро зеленобородый Солдат явился за Страшилой.
– Идите за мной, вас ждет Гудвин.
Страшила зашел в тронный зал и увидел на троне прекрасную Морскую Деву с блестящим рыбьим хвостом. Лицо Девы было неподвижно, как маска, глаза смотрели в одну точку. Дева обмахивалась веером, делая рукой однообразные механические движения.
Страшила, ожидавший увидеть Живую Голову, растерялся, но потом собрался с духом и почтительно поклонился. Морская Дева сказала приятным низким голосом, звучавшим, казалось, со стороны:
– Я – Гудвин, Великий и Ужасный! Кто ты и зачем пришел ко мне?
– Я – чучело, набитое соломой, – ответил Страшила. – Я прошу вас дать мозгов для моей соломенной головы. Тогда я буду как все люди в ваших владениях, и это самое заветное мое желание.
– Почему ты обращаешься с этой просьбой ко мне?
– Потому что вы мудры, и никто, кроме вас, не поможет мне.
– Мои милости не даются даром, – ответила Морская Дева. – И вот мой ответ: лиши Бастинду волшебной силы, и я дам тебе столько мозгов – и прекрасных мозгов! – что ты станешь мудрейшим человеком в стране Гудвина.
– Но ведь вы приказали сделать это Элли! – с удивлением вскричал Страшила.
– Мне не важно, кто это сделает, – ответил голос. – Но знай: пока Мигуны остаются рабами Бастинды, твоя просьба не будет исполнена. Иди и заслужи мозги.
Страшила печально поплелся к друзьям и рассказал им, как принял его Гудвин.
Все удивились, услышав, что Гудвин явился Страшиле в виде прекрасной Морской Девы.
На следующий день Солдат вызвал Железного Дровосека. Когда тот явился в тронный зал, неся на плече топор, с которым никогда не расставался, он не увидел ни Живой Головы, ни прекрасной Девы. На троне громоздился чудовищный зверь. Морда у него была, как у кабана, только с рогом, и на ней было разбросано около десятка глаз, тупо смотревших в разные стороны. Штук двенадцать лап разной длины и толщины свисали с неуклюжего туловища. Кожу зверя кое-где покрывала косматая шерсть: местами кожа была голая, и на грубой серой поверхности выступали бородавчатые наросты.
Более отвратительного чудовища невозможно было себе представить. У любого человека при виде его сердце забилось бы от страха. Но Дровосек не имел сердца, поэтому он не испугался и вежливо приветствовал чудовище. Все-таки он сильно разочаровался, так как ожидал увидеть Гудвина в образе прекрасной Девы, которая, по мнению Дровосека, скорее наделила бы его сердцем.
– Я – Гудвин, Великий и Ужасный! – проревел зверь голосом, выходившим не из пасти чудовища, а из дальнего угла комнаты. – Кто ты такой и зачем тревожишь меня?
– Я – Дровосек и сделан из железа. Я не имею сердца и не могу любить. Дайте мне сердце, и я буду, как все люди в вашей стране. И это самое мое заветное желание.
– Все желания да желания! Право, чтобы удовлетворить все ваши заветные желания, я должен день и ночь сидеть за своими волшебными книгами. – И после молчания голос добавил: – Если хочешь иметь сердце, заработай его!
– Как?
– Схвати Бастинду, заключи ее в каменную темницу! Ты получишь самое большое, самое доброе и самое любвеобильное сердце в стране Гудвина! – прорычало чудовище.
Железный Дровосек рассердился и шагнул вперед, снимая с плеча топор. Движение Дровосека было таким стремительным, что зверь испугался. Он злобно провизжал:
– Ни с места! Еще шаг вперед – и тебе и твоим друзьям не поздоровится!
Железный Дровосек в смущении покинул тронный зал и поспешил с плохими известиями к своим друзьям.
Трусливый Лев свирепо сказал:
– Хоть я и трус, а придется мне завтра померяться силами с Гудвином. Если он явится в образе зверя, я рявкну, как на саблезубых тигров, и напугаю его. Если он примет вид Морской Девы, я схвачу его и поговорю с ним по-своему. А лучше всего, если бы он был Живой Головой, – я катал бы ее из угла в угол и подбрасывал бы, как мяч, пока он не исполнит наших желаний.
На следующее утро наступила очередь Льва идти к Гудвину, но когда он вошел в тронный зал, то отпрыгнул в изумлении: над троном качался и сиял Огненный Шар. Лев зажмурил глаза.
Из угла раздался голос:
– Я – Гудвин, Великий и Ужасный! Кто ты и зачем докучаешь мне?
– Я – Трусливый Лев! Я хотел бы получить от вас немного смелости, чтобы стать царем зверей, как меня все величают.
– Помоги прогнать Бастинду из Фиолетовой страны, и вся смелость, какая есть во дворце Гудвина, будет твоя! Но если ты этого не сделаешь, ты навсегда останешься трусом. Я заколдую тебя, и ты будешь бояться мышей и лягушек!
Рассерженный Лев начал подкрадываться к Шару, чтобы схватить его, но на него повеяло таким жаром, что Лев взвыл и, поджав хвост, выбежал из зала. Он вернулся к друзьям и рассказал о приеме, который устроил ему Гудвин.
– Что же с нами будет? – печально спросила Элли.
– Ничего не остается, как попробовать выполнить приказ Гудвина, – сказал Лев.
– А если не удастся? – возразила девочка.
– Я никогда не получу смелости, – ответил Лев.
– Я никогда не получу мозгов, – сказал Страшила.
– А я никогда не получу сердца, – добавил Дровосек.
– А я никогда не вернусь домой, – молвила Элли и заплакала.
– А соседский Гектор всю жизнь будет утверждать, что я сбежал с фермы только потому, что испугался решительного боя с ним, – закончил Тотошка.
Потом Элли вытерла слезы и сказала:
– Попробую! Но я уверена, что ни за какие блага в мире не решусь поднять руку на Бастинду.
– Я пойду с тобой, – сказал Лев. – Хоть я и слишком труслив, чтобы помочь тебе в борьбе со злой волшебницей, но, может быть, мои услуги тебе в чем-нибудь пригодятся.
– Я тоже пойду, – сказал Страшила. – Правда, я ничем не смогу быть полезен: я ведь слишком глуп!
– У меня не хватит духу обидеть Бастинду, хотя она очень и очень скверная женщина, – сказал Железный Дровосек. – Но если вы идете, я, конечно, пойду с вами, друзья!
– Ну а Тотошка, – важно заявил песик, – Тотошка, понятно, никогда не покинет товарищей в беде.
Элли горячо поблагодарила верных друзей.
Решили отправиться на следующий день ранним утром.
Железный Дровосек наточил топор, тщательно смазал все суставы и доверху наполнил масленку лучшим маслом. Страшила попросил набить себя свежей соломой. Элли раздобыла кисточку и краски и заново подвела ему глаза, рот и уши, поблекшие от дорожной пыли и яркого солнца. Флита наполнила корзинку Элли вкусными кушаньями. Она расчесала шерстку Тотошки и привязала ему на шею серебряный колокольчик.
На рассвете их разбудил крик зеленого петуха, жившего на заднем дворе.
Последнее волшебство Бастинды
К воротам Изумрудного города путников отвел зеленобородый Солдат Дин Гиор. Страж Ворот снял со всех очки и спрятал их в сумку.
– Вы уже покидаете нас? – вежливо спросил он.
– Да, мы вынуждены идти, – с грустью ответила Элли. – Где начинается дорога в Фиолетовую страну?
– Туда нет дороги, – ответил Фарамант. – Никто по доброй воле не ходит в страну злой Бастинды.
– Как же мы найдем ее?
– Вам не придется беспокоиться об этом, – воскликнул Страж Ворот. – Когда вы придете в Фиолетовую страну, Бастинда сама найдет вас и заберет в рабство.
– А может быть, мы сумеем лишить ее волшебной силы? – сказал Страшила.
– Ах, вы хотите победить Бастинду? Тем хуже для вас! С ней еще никто не пробовал бороться, кроме Гудвина, да и тот, – Страж Ворот понизил голос, – потерпел неудачу. Она постарается захватить вас в плен, прежде чем вы сможете что-нибудь предпринять. Будьте осторожны! Бастинда очень злая и искусная волшебница, и справиться с ней очень трудно. Идите туда, где всходит солнце, и вы придете в ее страну! Желаю вам успеха!
Путники распрощались с Фарамантом, и он закрыл за ними ворота Изумрудного города. Элли повернула на восток, остальные пошли за ней. Все были печальны, зная, какое трудное дело им предстоит. Только беспечный Тотошка весело носился по полю и гонялся за большими пестрыми бабочками: он верил в силу Льва и Железного Дровосека и надеялся на изобретательность Страшилы.
Элли взглянула на собачку и вскрикнула от изумления: ленточка на шее из зеленой превратилась в белую.
– Что это значит? – спросила она друзей.
Все посмотрели друг на друга, и Страшила глубокомысленно заявил:
– Колдовство!
За неимением другого объяснения все согласились с этим и зашагали дальше. Изумрудный город исчезал вдали. Страна становилась пустынной: путники приближались к владениям Бастинды.
До самого полудня солнце светило путникам в глаза, ослепляя их, но они шли по каменистому плоскогорью, и не было ни одного дерева, чтобы спрятаться в тень. К вечеру Элли устала, а Лев поранил лапу и хромал.
Остановились на ночлег. Страшила и Железный Дровосек стали на караул, а остальные заснули.
* * *
У злой Бастинды был только один глаз, зато она видела им так, что не было уголка в Фиолетовой стране, который ускользнул бы от ее острого взора.
Выйдя вечерком посидеть на крылечке, Бастинда обвела глазом свои владения и вздрогнула от ярости: далеко-далеко, на границе своих владений, она увидела маленькую спящую девочку и ее друзей.
Волшебница свистнула в свисток. Ко дворцу Бастинды с шумом сбежалась стая огромных волков со злыми желтыми глазами и с большими клыками, торчавшими из разинутых пастей. Волки присели на задние лапы и, тяжело дыша, смотрели на Бастинду.
– Бегите на запад! Там найдете маленькую девочку, нагло забравшуюся в мою страну, и с ней ее спутников. Всех разорвите в клочки!
– Почему ты не возьмешь их в рабство? – спросил предводитель стаи.
– Девчонка слаба. Ее спутники не могут работать: один набит соломой, другой – из железа. И с ними Лев, от которого тоже не жди толку.
Вот как видела Бастинда своим единственным глазом!
Волки помчались.
– В клочки! В клочки! – визжала волшебница вдогонку.
Но Страшила и Железный Дровосек не спали. Они вовремя заметили приближение волков.
– Разбуди Льва, – сказал Страшила.
– Не стоит, – ответил Железный Дровосек. – Это мое дело – управляться с волками. Я им устрою хорошую встречу!
И он вышел вперед. Когда вожак подбежал к Железному Дровосеку, широко разевая красную пасть, Дровосек взмахнул остро отточенным топором – голова волка отлетела. Волки бежали вереницей один за другим; как только следующий бросился на Железного Дровосека, тот был уже наготове с поднятым кверху топором, и голова волка упала наземь.
Сорок свирепых волков было у Бастинды, и сорок раз поднимал Железный Дровосек свой топор. И когда он поднял его в сорок первый раз, ни одного волка не осталось в живых: все они лежали у ног Железного Дровосека.
– Прекрасная битва! – восхитился Страшила.
– Деревья рубить труднее, – скромно ответил Дровосек.
Друзья дожидались утра. Проснувшись и увидев кучу мертвых волков, Элли испугалась. Страшила рассказал ей о ночной битве, и девочка от всей души благодарила Железного Дровосека. После завтрака вся компания смело двинулась в путь.
Старая Бастинда любила понежиться в постели. Она встала поздно и вышла на крыльцо расспросить волков, как они загрызли дерзких путников.
Каков же был ее гнев, когда она увидела, что путники продолжают идти, а верные волки лежат мертвые!
Бастинда свистнула дважды, и в воздухе закружилась стая хищных ворон с железными клювами. Волшебница крикнула:
– Летите к западу. Там чужестранцы! Заклюйте их до смерти! Скорей! Скорей!
Вороны со злобным карканьем понеслись навстречу путникам. Завидев их, Элли перепугалась. Но Страшила сказал:
– С этими управиться – мое дело! Ведь недаром же я воронье пугало! Становитесь сзади меня! – И он нахлобучил шляпу на голову, широко расставил руки и принял вид заправского пугала.
Вороны растерялись и нестройно закружились в воздухе. Но вожак стаи хрипло прокаркал:
– Чего испугались? Чучело набито соломой! Вот я ему задам!
И вожак хотел сесть Страшиле на голову, но тот поймал его за крыло и мигом свернул ему шею. Сорок хищных ворон с железными клювами было у Бастинды, и всем свернул шеи храбрый Страшила и побросал их в кучу.
Путники поблагодарили Страшилу за находчивость и снова двинулись на восток.
Когда Бастинда увидела, что и верные ее вороны лежат на земле мертвой грудой, а путники неустрашимо идут вперед, ее охватили злоба и страх.
– Как? Неужели всего моего волшебного искусства недостанет задержать наглую девчонку и ее спутников?!
Бастинда затопала ногами и трижды просвистела в свисток. На ее зов слетелась туча свирепых черных пчел, укусы которых были смертельны.
– Летите на запад! – прорычала волшебница. – Найдите там чужестранцев и зажальте до смерти! Быстрей! Быстрей!
И пчелы с оглушительным жужжанием полетели навстречу путникам. Железный Дровосек и Страшила заметили их издалека. Страшила мигом сообразил, что делать.
– Вытаскивай из меня солому! – закричал он Железному Дровосеку. – Забрасывай Элли, Льва и Тотошку, и пчелы не доберутся до них!
Он проворно расстегнул кафтан, и из него высыпался целый ворох соломы. Лев, Элли и Тотошка бросились на землю. Дровосек быстро забросал их и выпрямился во весь рост.
Туча пчел с яростным жужжанием набросилась на Железного Дровосека. Дровосек улыбнулся: пчелы ломали ядовитые жала о железо и тотчас умирали, так как пчела не может жить без жала. Они падали, на их место налетали другие и также пытались вонзить жала в железное тело Дровосека.
Скоро все пчелы лежали мертвыми на земле, как куча черных угольков. Лев, Элли и Тотошка вылезли из-под соломы, собрали ее и набили Страшилу. Друзья снова двинулись в путь.
Злая Бастинда необыкновенно разгневалась и испугалась, видя, что и верные ее пчелы погибли, а путники идут вперед и вперед. Она рвала на себе волосы, скрежетала зубами и от злости долго не могла выговорить ни слова.
Наконец волшебница пришла в себя и созвала своих слуг – Мигунов. Бастинда приказала Мигунам вооружиться и уничтожить дерзких путников. Мигуны были не очень-то храбры – они жалостно замигали, и слезы покатились у них из глаз, но они не осмелились ослушаться приказа своей повелительницы и начали искать оружие. Но так как им никогда не приходилось воевать (Бастинда впервые обратилась к ним за помощью), то у них не было никакого оружия, и они вооружились кто кастрюлей, кто сковородником, кто цветочным горшком, а некоторые громко хлопали детскими хлопушками.
Когда Лев увидел, как Мигуны осторожно приближаются, прячась друг за друга, подталкивая один другого сзади и боязливо мигая и щурясь, он расхохотался:
– С этими битва будет недолгой!
Он выступил вперед, раскрыл огромную пасть и так рявкнул, что Мигуны побросали горшки, сковородки и хлопушки и разбежались кто куда.
Злая Бастинда позеленела от страха, видя, что путники идут да идут вперед и уже приближаются к ее дворцу.
Пришлось воспользоваться последним волшебным средством, которое у нее оставалось. В потайном дне сундука у Бастинды хранилась Золотая Шапка. Владелец Шапки мог когда угодно вызвать племя Летучих Обезьян и заставить их выполнить любое приказание. Но Шапку можно было употребить только три раза, а Бастинда уже дважды до этого призывала Летучих Обезьян. В первый раз она с их помощью стала повелительницей страны Мигунов, а во второй раз отбила войска Гудвина Ужасного, который пытался освободить Фиолетовую страну от ее власти.
Вот почему Гудвин боялся злой Бастинды и послал на нее Элли, надеясь на силу ее серебряных башмачков.
Бастинде не хотелось воспользоваться Шапкой в третий раз: ведь на этом кончалась ее волшебная сила. Но у колдуньи уже не было ни волков, ни ворон, ни черных пчел, а Мигуны оказались плохими вояками, и на них нельзя было рассчитывать.
И вот Бастинда достала Шапку, надела на голову и начала колдовать. Она топала ногой и громко выкрикивала волшебные слова:
– Бамбара, чуфара, лорики, ерики, пикапу, трикапу, скорики, морики! Явитесь передо мной, Летучие Обезьяны!
И небо потемнело от стаи Летучих Обезьян, которые неслись к дворцу Бастинды на своих мощных крыльях. Предводитель стаи Уорра подлетел к Бастинде и сказал:
– Ты вызвала нас в третий и последний раз! Что прикажешь сделать?
– Нападите на других чужестранцев, забравшихся в мою страну, и уничтожьте всех, кроме Льва! Его я буду запрягать в свою коляску!
– Будет исполнено! – ответил предводитель, и стая с шумом полетела на запад.
Победа
Путники с ужасом смотрели на приближение тучи огромных обезьян – с этими сражаться было невозможно.
Обезьяны налетели массой и с визгом набросились на растерянных пешеходов. Ни один не мог прийти на помощь другому, так как всем пришлось отбиваться от врагов.
Железный Дровосек напрасно размахивал топором. Обезьяны облепили его, вырвали топор, подняли бедного Дровосека высоко в воздух и бросили в ущелье, на острые скалы. Железный Дровосек был изуродован, он не мог сдвинуться с места. Вслед за ним в ущелье полетел и топор.
Другая партия обезьян расправлялась со Страшилой. Они выпотрошили его, солому развеяли по ветру, а кафтан, голову, башмаки и шляпу свернули в комок и зашвырнули на верхушку высокой горы.
Лев вертелся на месте и от страха так грозно ревел, что обезьяны не решались к нему подступить. Но они изловчились, накинули на Льва веревки, повалили на землю, опутали лапы, заткнули пасть, подняли на воздух и с торжеством отнесли во дворец Бастинды. Там его посадили за железную решетку, и Лев в ярости катался по полу, стараясь перегрызть путы.
Перепуганная Элли ждала жестокой расправы. На нее бросился сам предводитель Летучих Обезьян и уже протянул к горлу девочки длинные лапы с острыми когтями. Но тут он увидел на ногах Элли серебряные башмачки, лицо его перекосилось от страха. Уорра отпрянул назад и, загораживая Элли от подчиненных, закричал:
– Девочку нельзя трогать! Это Фея!
Обезьяны приблизились любезно и даже почтительно, бережно подхватили Элли вместе с Тотошкой и помчались в Фиолетовый дворец Бастинды. Опустившись перед дворцом, предводитель Летучих Обезьян поставил Элли на землю. Взбешенная волшебница набросилась на него с бранью. Уорра сказал:
– Твой приказ исполнен. Мы разбили железного человека и распотрошили чучело, поймали Льва и посадили за решетку. Но мы и пальцем не могли тронуть девочку; ты сама знаешь, какие несчастья грозят тому, кто обидит обладателя серебряных башмачков. Мы принесли ее к тебе; делай с ней, что хочешь. Прощай навсегда!
Обезьяны с криком поднялись в воздух и улетели.
Бастинда взглянула на ноги Элли и задрожала от страха: она узнала серебряные башмачки Гингемы.
«Как они к ней попали? – растерянно думала Бастинда. – Неужели хилая девчонка осилила могущественную Гингему, повелительницу Жевунов? И все же на ней башмачки! Плохо мое дело: ведь я пальцем не могу тронуть маленькую нахалку, пока на ней волшебные башмачки».
Она крикнула:
– Эй, ты! Иди сюда! Как тебя зовут?
Девочка подняла на злую волшебницу глаза, полные слез:
– Элли, сударыня!
– Расскажи, как ты завладела башмачками моей сестры Гингемы? – сурово крикнула Бастинда.
Элли густо покраснела.
– Право, сударыня, я не виновата. Мой домик упал на госпожу Гингему и раздавил ее…
– Гингема погибла… – прошептала злая волшебница.
Бастинда не любила сестру и не видела ее много лет. Она испугалась, что девочка в серебряных башмачках принесет гибель и ей! Но, поглядев на доброе лицо Элли, Бастинда успокоилась.
«Она ничего не знает о таинственной силе башмачков, – решила волшебница. – Если мне удастся завладеть ими, я стану могущественней, чем прежде, когда у меня были волки, вороны, черные пчелы и Золотая Шапка».
Глаза старухи заблестели от жадности, и пальцы скрючились, как будто уже стаскивали с Элли башмаки.
– Слушай меня, девочка Элли! – хрипло прокаркала она. – Я буду держать тебя в рабстве и, если будешь плохо работать, побью тебя большой палкой и посажу в темный подвал, где крысы – огромные жадные крысы! – съедят тебя и обгложут твои нежные косточки! Хи-хи-хи! Понимаешь ты меня?
– О сударыня! Не отдавайте меня крысам! Я буду слушаться.
Элли не помнила себя от страха.
В это время Бастинда заметила Тотошку, который робко жался к ногам Элли.
– Это еще что за зверь? – сердито спросила злая волшебница.
– Это моя собачка Тотошка, – боязливо ответила Элли. – Она хорошая. И очень любит меня…
– Гм… гм… – проворчала волшебница. – Никогда не видела таких зверей. И вот мой приказ: пусть эта собачка, как ты ее называешь, держится от меня подальше, а не то она первая попадет в подвал к крысам! А сейчас идите за мной!
Бастинда повела пленников через прекрасные комнаты дворца, где все было фиолетовое: и стены, и ковры, и мебель – и где у дверей в лиловых кафтанах стояли Мигуны, кланяясь до полу при появлении волшебницы и жалостно мигая ей вслед. Наконец Бастинда привела Элли в темную грязную кухню.
– Ты будешь чистить горшки, сковородки и кастрюли, мыть пол и топить печку! Моей кухарке уже давно нужна помощница!
И, оставив девочку, полуживую от испуга, Бастинда отправилась на задний двор, потирая руки.
– Я хорошо напугала девчонку! Теперь усмирю Льва, и оба будут у меня в руках!
Трусливый Лев уже успел перегрызть веревки и лежал в дальнем углу клетки. Когда он увидел Бастинду, его желтые глаза загорелись злобным огнем.
«Ах, как жаль, что у меня еще нет смелости, – подумал он. – Уж отплатил бы я старой ведьме за гибель Страшилы и Железного Дровосека». И он сжался в комок, готовясь к прыжку.
Старуха вошла через маленькую дверь.
– Эй ты, Лев, слушай! – прошамкала она. – Ты мой пленник! Я буду запрягать тебя в коляску и кататься по праздникам, чтобы Мигуны говорили: «Смотрите, какая могущественная наша повелительница Бастинда – она сумела запрячь даже Льва!»
Пока Бастинда болтала, Лев разинул пасть, ощетинил гриву и, прыгнув на волшебницу, проревел:
– Я тебя съем!
Он на волосок не достал до Бастинды. Перепуганная старуха пулей вылетела из клетки и проворно захлопнула дверцу. Тяжело дыша с перепугу, она крикнула через прутья решетки:
– Ах ты, проклятый! Ты еще меня не знаешь! Я заморю тебя голодом, если не согласишься ходить в упряжке!
– Я тебя съем! – повторил Лев и яростно бросился к решетке.
Старуха затрусила во дворец, ворча и ругаясь.
…Потянулись скучные тяжелые дни рабства. Элли с утра и до вечера работала на кухне, помогая кухарке Фрегозе. Добрая Мигунья старалась помочь девочке и при удобном случае с радостью выполняла за нее самую трудную работу. Но Бастинда зорко следила за тем, что делается на кухне, и Фрегозе то и дело попадало за ее доброту.
Бастинда жестоко придиралась к Элли и часто замахивалась на девочку грязным лиловым зонтиком, который всегда таскала с собой. Элли не знала, что волшебница не может ударить ее, и сердце девочки сжималось, когда зонтик поднимался над ее головой.
Каждый день старуха подходила к решетке и визгливо спрашивала Льва:
– Пойдешь в упряжке?
– Я тебя съем! – был постоянный ответ, и Лев грозно бросался на прутья решетки.
Бастинда с первого дня плена не давала Льву есть, но он не умирал с голоду и был силен и крепок, как всегда.
Дело в том, что старая Бастинда больше всего на свете боялась темноты и воды. Как только ночная темнота окутывала дворец, Бастинда пряталась в самой дальней комнате, запирала двери прочными железными засовами и не выходила до позднего утра. А Элли совсем не боялась темноты. Она вытаскивала из кухонного шкафа все съестное, что там оставалось. А о том, чтобы там побольше оставалось еды, заботилась Фрегоза. Держа в одной руке корзинку с провизией, а в другой большую бутыль с водой, Элли отправлялась на задний двор. Там ее с восторгом встречали Лев и Тотошка.
Элли и Тотошка очень испугались угрозы Бастинды отдать песика на съедение крысам, и Тотошка с первого дня плена переселился за решетку, под защиту Льва. Он знал, что оттуда Бастинда его не достанет, и безнаказанно лаял на злую волшебницу, когда она появлялась на дворе.
Элли пролезала в клетку между двумя прутьями. Лев и Тотошка набрасывались на принесенные еду и питье. Потом Лев укладывался поудобнее, девочка гладила его густую мягкую шерсть и играла кисточкой его хвоста. Элли, Лев и Тотошка долго разговаривали; с грустью вспоминали про гибель верных друзей – Страшилы и Железного Дровосека, строили планы побега. Но убежать из Фиолетового дворца было невозможно: его окружала высокая стена с острыми гвоздями наверху. Ворота Бастинда запирала, а ключи уносила с собой.
Поговорив и поплакав, Элли крепко засыпала на соломенной подстилке под надежной охраной Льва.
Так шли тоскливые дни плена. Бастинда с жадностью смотрела на серебряные башмачки Элли, которые девочка снимала только ночью, в клетке Льва, или когда купалась. Но Бастинда боялась воды и никогда не подходила в это время к Элли.
Девочка с первых же дней заметила эту странную водобоязнь волшебницы и пользовалась ею. Для Элли были праздниками те дни, когда Бастинда заставляла ее мыть кухню. Разлив на полу несколько ведер воды, девочка уходила в клетку ко Льву и там три-четыре часа отдыхала от тяжелой работы. Бастинда визгливо кричала и ругалась за дверью, но стоило ей заглянуть в кухню и увидеть на полу лужи, она в ужасе убегала к себе в спальню, провожаемая насмешливыми улыбками Фрегозы.
Элли часто беседовала с доброй кухаркой.
– Почему вы, Мигуны, не восстанете против Бастинды? – спрашивала девочка. – Вас так много, целые тысячи, а вы боитесь одной злой старухи. Накинулись бы на нее целой кучей, связали и посадили бы в железную клетку, туда, где сейчас Лев…
– Что ты, что ты, – с ужасом отмахивалась Фрегоза. – Ты не знаешь могущества Бастинды! Ей достаточно будет сказать одно слово, и все Мигуны повалятся мертвыми!
– Откуда вы это знаете?
– Да нам сама Бастинда столько раз об этом говорила.
– Почему же она не сказала такого слова, когда мы шли к ее дворцу? Почему она посылала на нас волков, ворон, черных пчел, а когда мои храбрые друзья уничтожили все ее воинство, Бастинде пришлось обратиться за помощью к Летучим Обезьянам?
– «Почему, почему»! – сердилась Фрегоза. – Вот за такие речи Бастинда нас испепелит.
– А как она узнает?
– Да уж так! От нее ничего не скроется!..
Но беседы повторялись не раз, Бастинда о них не знала, и Фрегоза становилась смелее. Она уже охотно соглашалась с Элли, что Мигуны должны освободиться от владычества злой волшебницы.
Но прежде чем решиться на что-нибудь, кухарка хотела поточнее узнать, какое волшебство еще осталось у Бастинды. По вечерам она подкрадывалась к дверям ее спальни и подслушивала ворчание старухи, которая в последнее время стала часто разговаривать сама с собой.
Однажды Фрегоза прибежала от двери Бастинды крайне взволнованная и, не найдя Элли в кухне, устремилась на задний двор. Вся компания уже спала, но кухарка разбудила друзей.
– Элли, ты была права! – кричала Фрегоза, размахивая руками. – Оказывается, Бастинда исчерпала все свои волшебства, и у нее ничего не осталось в запасе. Я слышала, как она причитала и проклинала твоих друзей за то, что они лишили ее волшебной силы…
Девочка и ее друзья необычайно обрадовались и начали расспрашивать Фрегозу о подробностях. Но кухарка мало что могла добавить. Она только еще рассказала, что Бастинда что-то толковала о серебряных башмачках, но что именно – этого Мигунья не дослушала, так как от волнения стукнулась лбом о дверь и убежала, боясь, что волшебница захватит ее на месте преступления.
Важная новость, принесенная Фрегозой, ободрила пленников. Теперь у них появилась возможность выполнить приказ Гудвина и освободить Мигунов.
– Откройте только мне клетку, – зарычал Лев, – и увидите, как я расправлюсь с Бастиндой!
Но клетка была закрыта на огромный замок, а ключ от него хранился у Бастинды в тайнике. Посоветовавшись, друзья решили, что Фрегоза должна подготовить к восстанию слуг. Они захватят волшебницу врасплох и лишат ее свободы и власти.
Фрегоза ушла, а Элли и ее друзья не спали почти всю ночь, разговаривая о предстоящей борьбе с Бастиндой.
На следующий день кухарка принялась за дело. Слуги были очень запуганы Бастиндой, и нелегко было уговорить их выступить против волшебницы. Однако Фрегоза сумела убедить кое-кого из дворцовой охраны, и посвященные в заговор Мигуны стали готовиться.
Прошло несколько дней. Видя, что охранники осмелели и всерьез собираются свести счеты со злой волшебницей, к ним решили присоединиться и остальные слуги. Восстание назревало, но тут непредвиденный случай привел к быстрой и неожиданной развязке.
Бастинда не оставляла мысли о том, что ей необходимо завладеть серебряными башмачками Элли. Для волшебницы это была единственная возможность сохранить свою власть над Фиолетовой страной. И наконец Бастинда придумала.
Однажды, когда ни Фрегозы, ни Элли не было на кухне, волшебница туго натянула над полом тонкую веревочку и спряталась за печью.
Девочка вошла, споткнулась о веревочку и упала; башмачок с правой ноги слетел и откатился в сторону. Хитрая Бастинда выскочила из-за печки, мигом схватила башмачок и надела на свою старую высохшую ногу.
– Хи-хи-хи! А башмачок-то на мне! – дразнила Бастинда девочку, онемевшую от неожиданности.
– Отдайте башмачок! – закричала Элли, придя в себя. – Ах вы, воровка! Как вам не стыдно!
– Попробуй отбери! – кривляясь, отвечала старуха. – Я и второй с тебя тоже сниму! А уже потом, будь спокойна, отомщу тебе за Гингему! Тебя съедят крысы – хи-хи-хи, огромные жадные крысы! – сгложут твои нежные косточки!
Элли была вне себя от горя и гнева: она так любила серебряные башмачки. Чтобы хоть как-нибудь отплатить Бастинде, Элли схватила ведро воды, подбежала к старухе и окатила ее водой с головы до ног.
Волшебница испуганно вскрикнула и пыталась отряхнуться. Напрасно: лицо ее стало ноздреватым, как тающий снег; от нее повалил пар; фигура начала оседать и испаряться…
– Что ты наделала! – завизжала волшебница. – Ведь я сейчас растаю!
– Мне очень жаль, сударыня! – ответила Элли. – Я, право, не знала. Но зачем вы украли башмачок?
– Пятьсот лет я не умывалась, не чистила зубов, пальцем не прикасалась к воде, потому что мне была предсказана смерть от воды, и вот пришел мой конец! – завыла старуха.
Голос волшебницы становился тише и тише; она таяла, как кусок сахара в стакане чая.
Элли с ужасом глядела на гибель Бастинды.
– Вы сами виноваты… – начала она.
– Нет, кто тебя надоу… ффффф…
Голос волшебницы прервался, она с шипением осела на пол, и через минуту от нее осталась только грязноватая лужица, в которой лежали платье волшебницы, зонтик, пряди седых волос и серебряный башмачок.
В этот момент в кухню вернулась Фрегоза. Кухарку очень обрадовала гибель ее жестокой госпожи. Зонтик, платье и волосы она подобрала и бросила в угол, чтобы потом сжечь их. Вытерев грязную лужу на полу, Фрегоза побежала по двору – рассказать всем радостную весть…
А Элли вычистила и надела башмачок, нашла ключ от клетки Льва в спальне Бастинды и поспешила на задний двор – рассказать своим друзьям об удивительном конце злой волшебницы Бастинды.
Как вернулись к жизни Страшила и Железный Дровосек
Трусливый Лев страшно обрадовался, услышав о неожиданной гибели Бастинды. Элли открыла клетку, и он с наслаждением пробежался по двору, разминая лапы.
Тотошка явился на кухню, чтобы своими глазами посмотреть на останки страшной Бастинды.
– Ха-ха-ха! – восхитился Тотошка, увидев в углу сверток грязного платья. – Оказывается, Бастинда была не крепче тех снежных баб, каких у нас мальчишки лепят зимой в Канзасе. И жаль, что ты, Элли, не догадалась об этом раньше.
– И хорошо, что я не догадалась, – возразила Элли. – А то вряд ли у меня хватило бы духу облить волшебницу, если бы я знала, что от этого она умрет…
– Ну, все хорошо, что хорошо кончается, – весело согласился Тотошка, – важно то, что мы вернемся в Изумрудный город с победой!
Возле Фиолетового дворца собралось множество Мигунов из окрестностей, и Элли объявила им, что отныне они свободны. Радость народа была неописуема. Мигуны приплясывали, щелкали пальцами и так усердно подмигивали друг другу, что к вечеру у них заслезились глаза и они уже ничего не видели вокруг себя.
Освободившись от рабства, Элли и Лев прежде всего подумали о Страшиле и Железном Дровосеке: надо было позаботиться о спасении верных друзей.
Несколько десятков расторопных Мигунов немедленно отправились на розыски под предводительством Элли и Льва. Тотошка не остался во дворце – он важно восседал на спине своего большого четвероногого друга. Они шли, пока не добрались до места битвы с Летучими Обезьянами, и там начали поиски. Железного Дровосека вытащили из ущелья вместе с его топором. Узелок с платьем и голову Страшилы, полинявшую и занесенную пылью, нашли на верхушке горы. Элли не могла удержаться от слез при виде жалких останков своих верных друзей.
Экспедиция вернулась во дворец, и Мигуны принялись за дело.
Костюм Страшилы был вымыт, зашит, почищен, набит свежей соломой, и – вот, пожалуйте! – перед Элли стоял ее милый Страшила. Но он не мог ни говорить, ни смотреть, потому что краска на его лице выгорела от солнца и у него не было ни рта, ни глаз.
Мигуны принесли кисточку и краски, и Элли начала подрисовывать Страшиле глаза и рот. Как только начал появляться первый глаз, он тотчас весело подмигнул девочке.
– Потерпи, дружок, – ласково сказала Элли, – а то останешься с косыми глазами…
Но Страшила просто не в силах был терпеть. Еще рот его не был окончен, а он уже заболтал:
– Пршт… Фршт… Стрш… прыб-ры… хрыбры… Я Страшила, храбрый, ловкий… Ах, какая радость! Я снова-снова с Элли!
Веселый Страшила обнимал своими мягкими руками Элли, Льва и Тотошку…
Элли спросила Мигунов, нет ли среди них искусных кузнецов. Оказалось, что страна исстари славилась замечательными часовыми мастерами, ювелирами, механиками. Узнав, что дело идет о восстановлении железного человека, товарища Элли, Мигуны уверили ее, что каждый из них готов сделать все для феи Спасительной Воды – так они прозвали девочку.
Восстановить Дровосека оказалось далеко не так просто, как Страшилу. Искуснейший мастер страны Лестар три дня и четыре ночи работал над его исковерканным сложным механизмом. Он и его помощники стучали молотками, пилили напильниками, склепывали, паяли, полировали…
И вот настал счастливый момент, когда Железный Дровосек стоял перед Элли. Он был совсем как новенький, если не считать нескольких заплаток, наложенных там, где железо насквозь пробилось о скалы. Но Дровосек не обращал внимания на заплатки. После починки он стал еще красивее. Мигуны отшлифовали его, и он так блестел, что на него больно было глядеть. Они починили и его топор и вместо поломанного деревянного топорища сделали золотое. Мигуны вообще любили все блестящее. Потом за Железным Дровосеком ходили толпы ребятишек и взрослых и, мигая, таращили на него глаза.
Слезы радости полились из глаз Железного Дровосека, когда он вновь увидел друзей. Страшила и Элли вытирали ему слезы лиловым полотенцем, боясь, как бы не заржавели его челюсти. Элли плакала от радости, и даже Трусливый Лев прослезился. Он так часто вытирал глаза хвостом, что кисточка на конце его промокла: Льву пришлось бежать на задний двор и сушить хвост на солнышке.
По случаю всех этих радостных событий во дворце был устроен веселый пир. Элли и ее друзья сидели на почетных местах, и за их здоровье было выпито множество бокалов лимонада и фруктового кваса.
Один из пирующих предложил, чтобы отныне в честь феи Спасительной Воды каждый Мигун умывался пять раз в день; после долгих споров согласились, что трех раз будет достаточно.
Друзья провели еще несколько веселых дней в Фиолетовом дворце среди Мигунов и начали собираться в обратный путь.
– Надо идти к Гудвину: он должен исполнить свои обещания, – сказала Элли.
– О, наконец-то я получу мои мозги! – крикнул Страшила.
– А я сердце! – молвил Железный Дровосек.
– А я смелость! – рявкнул Трусливый Лев.
– А я вернусь к папе с мамой в Канзас! – сказала Элли и захлопала в ладоши.
– И там я проучу этого хвастунишку Гектора, – добавил Тотошка.
Утром они собрали Мигунов и сердечно распрощались с ними.
Из толпы вышли три седобородых старика, обратились к Железному Дровосеку и почтительно просили его стать правителем их страны. Мигунам ужасно нравился ослепительно блестевший Железный Дровосек, его стройная осанка, когда он величественно шел с золотым топором на плече.
– Оставайтесь с нами! – просили его Мигуны. – Мы так беспомощны и робки. Нам нужен государь, который мог бы защитить нас от врагов. Вдруг на нас нападет какая-нибудь злая волшебница и снова поработит нас! Мы очень просим вас!
При одной мысли о злой волшебнице Мигуны взвыли от ужаса.
– Нет больше злых волшебниц в стране Гудвина! – с гордостью возразил Страшила. – Мы с Элли истребили их всех!
Мигуны вытерли слезы и продолжали:
– Подумайте и о том, как удобен такой правитель: он не ест, не пьет, значит, не будет обременять нас налогами. И если он пострадает в битве с врагами, мы сможем починить его: у нас уже есть опыт.
Железный Дровосек был польщен.
– Сейчас я не могу расстаться с Элли, – сказал он. – И мне нужно получить в Изумрудном городе сердце. Но потом… я подумаю и, может быть, вернусь к вам.
Мигуны обрадовались и веселыми криками «ура» проводили путников.
Вся компания получила богатые подарки. Элли поднесли браслет с алмазами. Железному Дровосеку сделали красивую золотую масленку, отделанную драгоценными камнями. Страшиле, зная, что он нетверд на ногах, Мигуны подарили великолепную трость с набалдашником из слоновой кости, а к шляпе его подвесили серебряные бубенчики чудесного тона. Страшила чрезвычайно возгордился подарками. При ходьбе он далеко откидывал в сторону руку с тростью и тряс головой, чтобы вдоволь насладиться мелодичным перезвоном бубенчиков. Впрочем, ему это скоро надоело, и он стал вести себя по-прежнему просто.
Лев и Тотошка получили чудесные золотые ошейники. Льву ошейник сначала не понравился, но мастер Лестар сказал ему, что все цари носят золотые ошейники, и тогда Лев примирился с этим неприятным украшением.
– Когда я получу смелость, – сказал Лев, – я стану царем зверей, значит, мне надо заранее привыкать к этой противной штуке…
Возвращение в Изумрудный город
Фиолетовый город Мигунов остался позади. Путники шли на запад. Элли была в Золотой Шапке. Девочка случайно надела Шапку в комнате Бастинды. Она не знала ее волшебной силы, но Шапка понравилась девочке, и Элли надела ее.
Они шли весело и надеялись в два-три дня добраться до Изумрудного города. Но в горах, где они сражались с Летучими Обезьянами, путники заблудились: сбившись с пути, они пошли в другую сторону.
Дни проходили за днями, а башни Изумрудного города не показывались на горизонте.
Провизия была на исходе, и Элли с беспокойством думала о будущем.
Однажды, когда путники отдыхали, девочка внезапно вспомнила о свистке, подаренном ей королевой-мышью.
– Что, если я свистну?
Элли трижды дунула в свисток. В траве послышался шорох, и на поляну выбежала королева полевых мышей.
– Добро пожаловать! – радостно крикнули путники, а Дровосек ухватил неугомонного Тотошку за ошейник.
– Что вам угодно, друзья мои? – спросила королева Рамина своим тоненьким голоском.
– Мы возвращаемся в Изумрудный город из страны Мигунов и заблудились, – сказала Элли. – Помогите нам найти дорогу!
– Вы идете в обратную сторону, – сказала мышь, – скоро перед вами откроется горная цепь, окружающая страну Гудвина. И отсюда до Изумрудного города много-много дней пути.
Элли опечалилась.
– А мы думали, что скоро увидим Изумрудный город.
– О чем может печалиться человек, у которого на голове Золотая Шапка? – с удивлением спросила королева-мышь. Она хоть и была мала ростом, но принадлежала к семейству фей и знала употребление всяких волшебных вещей. – Вызовите Летучих Обезьян, и они перенесут вас куда нужно.
Услышав о Летучих Обезьянах, Железный Дровосек затрясся, а Страшила съежился от ужаса. Трусливый Лев замахал косматой гривой:
– Опять Летучие Обезьяны? Благодарю покорно! Я с ними достаточно знаком и по мне – эти твари хуже саблезубых тигров!
Рамина рассмеялась:
– Обезьяны послушно служат владетелю Золотой Шапки. Посмотрите подкладку: там написано, что нужно делать.
Элли заглянула внутрь.
– Мы спасены, друзья мои! – весело закричала она.
– Я удаляюсь, – с достоинством сказала королева-мышь. – Наш род давно не в ладу с родом Летучих Обезьян. До свиданья!
– До свиданья! Спасибо! – прокричали путники, и Рамина исчезла.
Элли начала говорить волшебные слова, написанные на подкладке.
– Бамбара, чуфара, лорики, ерики…
– Бамбара, чуфара?.. – с удивлением переспросил Страшила.
– Ах, пожалуйста, не мешай, – попросила Элли и продолжала: – Пикапу, трикапу, скорики, морики…
– Скорики, морики… – прошептал Страшила.
– Явитесь передо мной, Летучие Обезьяны! – громко закричала Элли, и в воздухе зашумела стая Летучих Обезьян.
Путники невольно пригнули головы к земле, вспоминая прошлую встречу с обезьянами. Но стая тихонько опустилась, и предводитель Уорра почтительно поклонился Элли.
– Что прикажете, владетельница Золотой Шапки?
– Отвезите нас в Изумрудный город!
– Будет исполнено!
Один миг – и путники очутились высоко в воздухе. Предводитель Летучих Обезьян и его жена несли Элли; Страшила и Железный Дровосек сидели верхом; Льва подхватили несколько сильных обезьян; молоденькая обезьянка тащила Тотошку, а песик лаял на нее и старался укусить. Сначала путникам было страшно, но вскоре они успокоились, видя, как свободно чувствуют себя обезьяны в воздухе.
– Почему вы повинуетесь владетелю Золотой Шапки? – спросила Элли.
Уорра рассказал Элли историю о том, как много веков назад племя Летучих Обезьян обидело могущественную фею. В наказание фея сделала волшебную Шапку. Летучие Обезьяны должны выполнить три желания владельца Шапки, и после этого он не имеет над ними власти.
Но если Шапка переходит к другому, этот может снова приказывать обезьяньему племени. Первой владелицей Золотой Шапки была фея, которая ее сделала. Потом Шапка много раз переходила из рук в руки, пока не попала к злой Бастинде, а от нее к Элли.
Через час показались башни Изумрудного города, и обезьяны бережно опустили Элли и ее спутников у самых ворот, на дорогу, вымощенную желтым кирпичом.
Стая взвилась в воздух и с шумом скрылась.
Элли позвонила. Вышел Фарамант и страшно удивился:
– Вы вернулись?
– Как видите! – с достоинством сказал Страшила.
– Но ведь вы отправились к злой волшебнице Фиолетовой страны.
– Мы были у нее, – ответил Страшила и важно стукнул тростью по земле. – Правда, нельзя похвастать, что мы там весело провели время.
– И вы ушли из Фиолетовой страны без разрешения Бастинды? – допытывался удивленный привратник.
– А мы не спрашивали у нее разрешения! – продолжал Страшила. – Вы знаете, она ведь растаяла!
– Как? Растаяла?! Прекрасное, восхитительное известие! Но кто же ее растопил?
– Элли, конечно! – важно сказал Лев.
Страж Ворот низко поклонился Элли, повел путников в свою комнату и вновь надел на них уже знакомые им очки. И снова все волшебно преобразилось вокруг, все засияло мягким зеленым светом.
Разоблачение Великого и Ужасного
Знакомыми улицами путники направились к дворцу Гудвина. По дороге Фарамант не утерпел и сообщил кое-кому из жителей о гибели страшной Бастинды. Весть быстро распространилась по городу, и скоро за Элли и ее друзьями до самого дворца шла большая толпа почтительных зевак.
Зеленобородый Солдат был на посту и, как всегда, смотрелся в зеркальце и расчесывал свою великолепную бороду. На этот раз толпа собралась такая большая и кричала так громко, что привлекла внимание Солдата не больше, чем через десять минут. Дин Гиор очень обрадовался возвращению путников из опасного похода, вызвал Флиту, и та отвела их в прежние комнаты.
– Пожалуйста, доложите Великому Гудвину о нашем возвращении, – сказала Элли Солдату, – и передайте, что мы просим нас принять…
Через несколько минут Дин Гиор вернулся и сказал:
– Я громко изложил вашу просьбу у дверей тронного зала, но не получил от Великого Гудвина никакого ответа…
Солдат каждый день являлся к дверям тронного зала и докладывал о желании путников видеть Гудвина, и каждый раз ответом была гробовая тишина.
Прошла неделя. Ожидание стало невыносимо томительным. Путники рассчитывали встретить во дворце Гудвина горячий прием. Равнодушие Волшебника пугало и раздражало их.
– Уж не умер ли он? – задумчиво говорила Элли.
– Нет, нет! Он просто не хочет выполнять своих обещаний и прячется от нас! – возмущался Страшила. – Конечно, ему жаль мозгов, и сердца, и смелости – ведь это все ценные вещи. Но не надо было посылать нас к злой волшебнице Бастинде, которую мы так храбро уничтожили.
Разгневанный Страшила объявил Солдату:
– Скажите Гудвину: если он нас не примет, мы вызовем Летучих Обезьян. Скажите Гудвину, что мы – их хозяева, мы владеем Золотой Шапкой – пикапу, трикапу, – и когда сюда явятся Летучие Обезьяны, мы с ним поговорим.
Дин Гиор ушел и очень скоро вернулся.
– Гудвин Ужасный примет вас всех завтра ровно в десять часов утра в тронном зале. Просьба не опаздывать. И знаете что, – тихонько прошептал он на ухо Элли, – он, кажется, испугался. Ведь он имел дело с Летучими Обезьянами и знает, что это за звери.
Путешественники провели тревожную ночь и утром, в назначенное время, собрались перед дверью тронного зала.
Дверь открылась, и они вступили в зал. Каждый ожидал встретить Гудвина в том виде, в каком он показывался им в первый раз. Но они удивились, увидев, что в зале не было никого. Там царила торжественная и жуткая тишина, и путников охватил страх: что готовит им Гудвин.
Они вздрогнули как от внезапного удара грома, когда среди пустой комнаты заговорил голос:
– Я Гудвин, Великий и Ужасный! Зачем вы беспокоите меня?
Элли и ее друзья посмотрели вокруг – никого не было видно.
– Где вы? – дрожащим голосом спросила Элли.
– Я – везде! – торжественно отвечал голос. – Я могу принимать любой образ и становлюсь невидимым, когда захочу. Подойдите к трону, я буду говорить с вами!
Путники сделали несколько шагов вперед. Все ужасно боялись, кроме Железного Дровосека и Тотошки. Железный Дровосек не имел сердца, а Тотошка не понимал, как можно бояться голосов.
– Говорите! – послышался голос.
– Великий Гудвин, мы пришли просить вас исполнить ваши обещания!
– Какие обещания? – спросил голос.
– Вы обещали отправить меня в Канзас, к папе и маме, когда Мигуны будут освобождены от власти Бастинды.
– А мне вы обещали дать мозги!
– А мне сердце!
– А мне смелость!
– Но разве Мигуны действительно стали свободными? – спросил голос, и Элли показалось, что он задрожал.
– Да! – ответила девочка. – Я облила злую Бастинду водой, и она растаяла!
– Доказательства, доказательства! – настойчиво сказал голос.
– Пикапу, трикапу! – воскликнул Страшила. – Разве вы, который везде, не видите на голове у Элли Золотую Шапку? Или вы хотите, чтобы мы для доказательства вызвали Летучих Обезьян, бамбара, чуфара?!
– О нет, нет, я вам верю! – поспешно перебил голос. – Но как это неожиданно!.. Хорошо, приходите послезавтра, я подумаю о ваших просьбах.
– Было время думать, скорики, морики! – заорал разъяренный Страшила. – Мы ждали приема целую неделю!
– Не хотим больше ждать ни одного дня! – энергично поддержал товарища Железный Дровосек, а Лев так рявкнул, что огромный зал наполнился гулом, в котором потонул чей-то испуганный возглас.
Когда смолкли отзвуки львиного рева, наступило молчание. Элли и ее товарищи ждали, как ответит Гудвин на их смелый вызов. В это время Тотошка усиленно нюхал воздух и вдруг с лаем бросился в дальнюю часть комнаты. Мгновение – и он скрылся из глаз. Удивленной Элли показалось, что песик проскочил сквозь стену. Но тотчас же из стены, нет, из-за зеленой ширмочки, сливавшейся со стеной, с криком выскочил маленький человечек:
– Уберите собаку! Она укусит меня! Кто разрешил приводить в мой дворец собак?
Путешественники с недоумением смотрели на человечка. Ростом он был не выше Элли, но уже старый, с большой головой и морщинистым лицом. На нем был пестрый жилет, полосатые брюки и длинный сюртук. В руке у него был длинный рупор, и он испуганно отмахивался им от Тотошки, который выскочил из-за ширмочки и старался укусить его за ногу.
Железный Дровосек с топором на плече стремительно шагнул навстречу незнакомцу.
– Кто вы такой? – сурово спросил он.
– Я – Гудвин, Великий и Ужасный, – дрожащим голосом ответил человечек. – Но, пожалуйста, пожалуйста, не трогайте меня! Я сделаю все, что вы от меня потребуете!
Путники переглянулись с необыкновенным удивлением и разочарованием.
– Но я думала, что Гудвин – это Живая Голова, – сказала Элли.
– А я думал, что Гудвин – Морская Дева, – сказал Страшила.
– А я думал, что Гудвин – Страшный Зверь, – сказал Дровосек.
– А я думал, что Гудвин – Огненный Шар, – сказал Лев.
– Все это верно, и все вы ошибаетесь, – мягко сказал незнакомец. – Это только маски.
– Как маски?! – вскричала Элли. – Разве вы не Великий Волшебник?
– Тише, дитя мое! – сказал Гудвин. – Обо мне составилось мнение, что я Великий Волшебник.
– А на самом деле?
– На самом деле… увы, на самом деле я обыкновенный человек, дитя мое!
Слезы покатились из глаз Элли от разочарования и обиды.
Железный Дровосек тоже готов был зарыдать, но вовремя вспомнил, что при нем нет масленки.
Рассерженный Страшила вскричал:
– Я скажу, кто вы такой, если вы этого не знаете! Вы обманщик, пикапу, трикапу!
– Совершенно верно, – отвечал человечек, ласково улыбаясь и потирая руки. – Я – Великий и Ужасный Обманщик.
– Но как же теперь быть? – сказал Железный Дровосек. – От кого же я получу сердце?
– А я мозги? – спросил Страшила.
– А я смелость? – спросил Лев.
– Друзья мои! – сказал Гудвин. – Не говорите о пустяках. Подумайте, какое ужасное существование я веду в этом дворце!
– Вы ведете ужасное существование? – удивилась Элли.
– Да, дитя мое! – вздохнул Гудвин. – Заметьте, никто, никто в мире не знает, что я – Великий Обманщик, и мне многие годы приходится хитрить, скрываться и всячески дурачить людей. А вы знаете, это нелегкое занятие – морочить людям головы. И, к несчастью, это всегда раскрывается. Вот вы разоблачили меня, и, по правде сказать, – он вздохнул, – я рад этому! Конечно, я ошибся, впустив вас сюда всех вместе, да еще с этой проклятой собачонкой…
– Но-но-но, поосторожнее! – сказал Тотошка, оскалив зубы.
– Прошу прощения, – поклонился Гудвин, – я не хотел оскорбить вас… Да, так на чем я остановился? Ага, вспомнил… Я впустил вас всех потому, что очень испугался Летучих Обезьян.
– Но я ничего не понимаю! – сказала Элли. – Как же я тогда видела вас в образе Живой Головы?
– Это очень просто! – ответил Гудвин. – Идите за мной, и вы поймете.
Он провел их через потайную дверь в кладовую позади тронного зала. Там они увидели Живую Голову, Морскую Деву, зверя, фантастических птиц и рыб. Все это было сделано из бумаги, картона, папье-маше и искусно раскрашено.
– Вот формы, которые может принимать Гудвин, Великий и Ужасный, – смеясь, сказал разоблаченный Волшебник. – Как видите, выбор достаточно хорош и сделает честь любому цирку.
– Все это отвратительно… то есть я хотел сказать, удивительно, – молвил Страшила.
Лев подошел к Голове и сердито ударил ее лапой. Голова покатилась по полу, кувыркаясь и свирепо вращая глазами. Испуганный Лев отскочил с рычанием.
– Самое трудное, – вздыхая, сказал Гудвин, – управлять глазами. Я тянул из-за ширмы за ниточки, но глаза смотрели не туда, куда нужно. Ты, может быть, заметила это, дитя мое?
– Меня это поразило, – ответила Элли, – но я была так напугана, что не понимала, в чем дело.
– Я на испуг-то и рассчитывал, – признался Гудвин. – Если мои превращения и не всегда бывали удачны, все же страх посетителей не давал им заметить недостатки.
– А Огненный Шар? – вскричал Лев.
– Ну, вас-то я боялся больше всех, а потому сделал шар из ваты, пропитал спиртом и зажег. Недурно горело, а?
Лев с презрением отвернулся от Великого Обманщика.
– Как вам не стыдно дурачить людей? – спросил Страшила.
– Сначала было стыдно, а потом привык, – ответил Гудвин. – Идемте в тронный зал, я расскажу вам всю историю.
История Гудвина
Гудвин усадил гостей в мягкие кресла и начал:
– Зовут меня Джеймс Гудвин. Родился я в Канзасе…
– Как?! – удивилась Элли. – И вы из Канзаса?
– Да, дитя мое! – вздохнул Гудвин. – Мы с тобой земляки. Я покинул Канзас много-много лет назад. Твое появление растрогало и взволновало меня, но я боялся разоблачения и послал тебя к Бастинде. – Он со стыдом опустил голову. – Впрочем, я надеялся, что серебряные башмачки защитят тебя, и, как видишь, не ошибся… Но вернемся к моей истории. В молодости я был актером, играл царей и героев. Убедившись, что это занятие дает мало денег, я стал баллонистом…
– Кем? – не поняла Элли.
– Бал-ло-ни-стом. Я поднимался на баллоне, то есть на воздушном шаре, наполненном легким газом. Я это делал для потехи толпы, разъезжая по ярмаркам. Свой баллон я всегда привязывал веревкой. Однажды веревка оборвалась, мой баллон подхватило ураганом, и он помчался неведомо куда. Я летел целые сутки, пронесся над пустыней и огромными горами и опустился в Волшебной стране, которую теперь называют страной Гудвина. Отовсюду сбежался народ и, видя, что я спускаюсь с неба, принял меня за Великого Волшебника. Я не разубеждал этих легковерных людей. Наоборот, я вспомнил роли царей и героев и сыграл роль волшебника довольно хорошо для первого раза (впрочем, там не было критиков!). Я объявил себя правителем страны, и жители подчинились мне с удовольствием. Они ожидали моей защиты от злых волшебниц, посещавших страну. Первым делом я построил Изумрудный город.
– Где вы достали столько зеленого мрамора? – спросила Элли.
– И изумрудов? – спросил Страшила.
– И столько всевозможных зеленых вещей? – спросил Железный Дровосек.
– Терпение, друзья мои! Вы скоро узнаете все мои тайны, – сказал Гудвин, улыбаясь. – В моем городе не больше зеленого, чем во всяком другом. Тут все дело, – он таинственно понизил голос, – все дело в зеленых очках, которых никогда не снимают мои подданные.
– Как? – вскричала Элли. – Значит, мрамор домов и мостовых…
– Белый, дитя мое!
– А изумруды? – спросил Страшила.
– Простое стекло, но хорошего сорта! – гордо добавил Гудвин. – Я не жалел расходов. И потом, изумруды на башнях города – настоящие. Ведь их видно издалека.
Элли и ее друзья удивлялись все больше и больше. Теперь девочка поняла, почему ленточка на шее Тотошки стала белой, когда они покинули Изумрудный город. А Гудвин спокойно продолжал:
– Постройка Изумрудного города продолжалась несколько лет. Когда она окончилась, мы имели защиту от злых волшебниц. Я был в то время еще молод. Мне пришло в голову, что если я буду близок к народу, то во мне разгадают обыкновенного человека. А тогда кончится моя власть. И я закрылся в тронном зале и прилегающих к нему комнатах.
Я прекратил сношения со всем миром, не исключая и моих прислужников. Я завел принадлежности, которые вы видели, и начал творить чудеса. Я присвоил себе торжественные имена Великий и Ужасный. Через несколько лет народ забыл мой настоящий облик, и по стране пошли обо мне всевозможные слухи. А я этого и добивался и всячески старался поддержать свою славу великого чародея. Вообще мне это удавалось, но бывали и промахи. Крупной неудачей был мой поход против Бастинды. Летучие Обезьяны разбили мое войско. К счастью, я успел бежать и избавиться от плена. С тех пор я страшно боялся волшебниц. Достаточно было им узнать, кто я на самом деле, и мне пришел бы конец: ведь я‑то не волшебник! И как я обрадовался, когда узнал, что домик Элли раздавил Гингему! Я решил, что хорошо бы уничтожить власть и второй злой волшебницы. Вот почему я так настойчиво посылал вас против Бастинды. Но теперь, когда Элли растопила ее, мне совестно признаться, что я не могу выполнить своих обещаний! – со вздохом кончил Гудвин.
– По-моему, вы плохой человек, – сказала Элли.
– О нет, дитя мое! Я не плохой человек, но очень плохой волшебник!
– Значит, я не получу от вас мозгов? – со стоном спросил Страшила.
– Зачем вам мозги? Судя по всему, что я знаю о вас, у вас соображение не хуже, чем у любого человека с мозгами, – польстил Гудвин Страшиле.
– Может быть, и так, – возразил Страшила, – а все-таки без мозгов я буду несчастен.
Гудвин внимательно посмотрел на него.
– А вы знаете, что такое мозги? – спросил он.
– Нет! – признался Страшила. – Понятия не имею, как они выглядят!
– Хорошо! Приходите ко мне завтра, и я наполню вашу голову первосортными мозгами. Но вы сами должны научиться употреблять их.
– О, я научусь! – радостно вскричал Страшила. – Даю вам слово, что научусь! Эй-гей-гей-го! У меня скоро будут мозги! – приплясывая, запел счастливый Страшила.
Гудвин с улыбкой смотрел на него.
– А как насчет смелости? – робко заикнулся Лев.
– Вы смелый зверь! – ответил Гудвин. – Вам недостает только веры в себя. И потом, всякое живое существо боится опасности, и смелость в том, чтобы победить боязнь. Вы свою боязнь побеждать умеете.
– А вы дайте мне такую смелость, – упрямо перебил Лев, – чтобы я ничего не боялся.
– Хорошо, – с лукавой улыбкой сказал Гудвин. – Приходите завтра, и вы ее получите.
– А она у вас кипит в горшке под золотой крышкой? – осведомился Страшила.
– Почти что так. Кто вам сказал? – удивился Гудвин.
– Фермер по дороге в Изумрудный город.
– Он хорошо осведомлен о моих делах, – коротко заметил Гудвин.
– А мне вы дадите сердце? – спросил Железный Дровосек.
– Сердце делает многих людей несчастными, – сказал Гудвин. – Не очень большое преимущество – иметь сердце.
– Об этом можно спорить, – решительно возразил Железный Дровосек. – Я все несчастья перенесу безропотно, если у меня будет сердце.
– Хорошо. Завтра у вас будет сердце. Все-таки я столько лет был волшебником, что трудно было ничему не научиться.
– А как с возвращением в Канзас? – спросила Элли, сильно волнуясь.
– Ах, дитя мое! Это очень трудная задача. Но дай мне несколько дней сроку, и, быть может, я сумею переправить тебя в Канзас…
– Вы сумеете, обязательно сумеете! – радостно вскрикнула Элли. – Ведь в волшебной книге Виллины сказано, что я вернусь домой, если помогу трем существам добиться исполнения их самых заветных желаний.
– Вероятно, так и будет, – согласился Гудвин и наставительно добавил: – Волшебным книгам надо верить. А теперь идите, друзья мои, и чувствуйте себя в моем дворце как дома. Мы будем видеться с вами каждый день. Но никому-никому не открывайте, что я – Обманщик!
Друзья, довольные, покинули тронный зал Гудвина, а у Элли появилась твердая надежда, что Великий и Ужасный Обманщик вернет ее в Канзас.
Часть третья. Исполнение желаний
Чудесное искусство Великого Обманщика
Утром Страшила весело пошел к Гудвину получать мозги.
– Друзья мои! – вскричал он. – Когда я вернусь, я буду точь-в-точь как все люди!
– Я люблю тебя и таким, – просто сказала девочка.
– Это очень хорошо. Но посмотришь, каков я буду, когда великие мысли закопошатся в моем мозгу!
Волшебник встретил Страшилу приветливо.
– Вы не рассердитесь, мой друг, если я сниму с вас голову? – спросил он. – Мне надо набить ее мозгами.
– О, пожалуйста, не стесняйтесь! – весело ответил Страшила. – Снимите ее и держите у себя, сколько хотите. Я не почувствую себя хуже.
Гудвин снял голову Страшилы и заменил солому кульком, полным отрубей, смешанных с иголками и булавками. Затем поставил голову на место и поздравил Страшилу.
– Теперь вы умный человек – у вас новые мозги самого лучшего сорта.
Страшила горячо поблагодарил Гудвина и поспешил к друзьям. Элли смотрела на него с любопытством. Голова Страшилы раздулась, из нее торчали иголки и булавки.
– Как ты себя чувствуешь? – заботливо спросила Элли.
– Я начинаю чувствовать себя мудрым! – гордо ответил Страшила. – Только бы мне научиться пользоваться моими новыми мозгами, и я стану знаменитым человеком!
– А почему из твоих мозгов торчат иголки? – спросил Железный Дровосек.
– Это доказательство остроты его ума, – догадался Трусливый Лев.
Видя Страшилу таким довольным, Железный Дровосек с большой надеждой отправился к Гудвину.
– Мне придется прорезать у вас дыру в груди, чтобы вставить сердце, – предупредил Гудвин.
– Я в вашем распоряжении, – ответил Железный Дровосек. – Режьте, где угодно.
Гудвин пробил в груди Дровосека небольшое отверстие и показал ему красивое шелковое сердце, набитое опилками.
– Нравится ли оно вам?
– Оно прелестно! Но доброе ли оно, это красивое сердце, и сможет ли любить?
– О, не беспокойтесь! – ответил Гудвин. – С этим сердцем вы будете самым чувствительным человеком на земле!
Сердце было вставлено, дыра запаяна, и Железный Дровосек, ликуя, поспешил к друзьям.
– О, как я счастлив, милые друзья мои! – громко заявил Дровосек. – Сердце бьется в моей груди, как прежде. Даже сильнее, чем прежде! Я так и чувствую, как оно стучит о грудную клетку при каждом моем шаге! И знаете что? Оно гораздо нежнее того, которое было у меня прежде! Меня переполняют любовь и нежность!
В тронный зал вошел Лев.
– Я пришел за смелостью, – робко молвил он, переминаясь с лапы на лапу.
– Одну минуточку! – сказал Гудвин. Он достал из шкафа бутылку и вылил содержимое в золотое блюдо. – Вы должны это выпить! (Это был шипучий квас с примесью валерьянки.)
Запах не особенно понравился Льву.
– Что это? – недоверчиво спросил он.
– Это смелость. Она всегда бывает внутри, и вам необходимо проглотить ее.
Лев сделал гримасу, но выпил жидкость и даже вылизал тарелку.
– О, я уже становлюсь сильным! Храбрость заструилась по моим жилам и переполняет сердце! – заревел он в восторге. – Спасибо, о, спасибо, Великий Волшебник! – И Лев помчался к друзьям…
Для Элли потянулись дни тоскливого ожидания. Видя, что три заветных желания ее друзей исполнились, она горячее, чем прежде, стремилась в Канзас. Маленькая компания целыми днями вела разговоры.
Страшила уверял, что у него в голове бродят замечательные мысли; к сожалению, он не может открыть их, так как они понятны только ему одному.
Железный Дровосек рассказывал, как ему приятно чувствовать, что сердце бьется у него в груди при ходьбе. Он был совершенно счастлив.
А Лев гордо заявил, что он готов сразиться с десятью саблезубыми тиграми, – так много у него смелости! Железный Дровосек даже опасался, не слишком ли большую порцию смелости поднес Льву волшебник и не сделал ли он Льва безрассудным: ведь безрассудство ведет к гибели.
Одна Элли молчала и печально вспоминала о Канзасе.
Наконец Гудвин призвал ее:
– Ну, дитя мое, я додумался, как нам попасть в Канзас!
– И вы отправляетесь со мной? – изумилась Элли.
– Обязательно, – ответил бывший волшебник. – Мне, признаться, надоели затворничество и вечный страх быть разоблаченным. Лучше я вернусь в Канзас и поступлю работать в цирк.
– О, как я рада! – вскричала Элли и захлопала в ладоши. – Когда же в путь?
– Не так скоро, дитя мое! Я убедился, что из этой страны можно выбраться только по воздуху. Ведь и я на баллоне, и ты в домике – мы перенесены сюда ураганом. Мой баллон цел – я хранил его все эти годы. На него лишь кое-где придется наклеить заплаты. А легкий газ водород, которым наполняют шары, я добыть сумею.
Починка воздушного шара продолжалась несколько дней. Элли предупредила друзей о скорой разлуке, и все трое – Страшила, Дровосек и Лев – страшно опечалились.
Пришел назначенный день. Гудвин объявил по городу, что отправляется навестить старого друга – Великого Волшебника Солнце, с которым не виделся много лет. Дворцовая площадь наполнилась народом. Гудвин пустил в ход водородный аппарат, и шар стал быстро надуваться. Когда баллон наполнился, к ужасу и восторгу толпы, Гудвин влез в корзину и обратился к народу:
– До свиданья, друзья мои!
Раздались крики «ура», и вверх полетели зеленые шапки.
– Мы много лет жили в мире и согласии, и мне больно расставаться с вами… – Гудвин вытер слезу, и в толпе послышались вздохи. – Но мой друг Солнце настоятельно зовет меня, и я повинуюсь: ведь Солнце более могущественный волшебник, чем я! Вспоминайте обо мне, но не слишком грустите: грусть вредит пищеварению. Соблюдайте мои законы! Не снимайте очков: это принесет вам великие бедствия! Вместо себя я назначаю вашим правителем достопочтенного господина Страшилу Мудрого.
Изумленный Страшила вышел вперед, опираясь на великолепную трость, и важно приподнял шляпу. Мелодичный звон бубенчиков привел толпу в восторг: в Изумрудном городе не было обычая подвязывать бубенчики под шляпы. Толпа бурно приветствовала Страшилу и тут же поклялась в верности новому правителю. Исключением были несколько завистников: они сами метили на место правителя. Но они затаились и молчали.
Гудвин позвал Элли, нежно прощавшуюся с друзьями.
– Скорей в корзину! Шар готов к полету!
Элли в последний раз поцеловала в морду большого грозного Льва. Лев был растроган: из его глаз капали крупные слезы, и он забывал вытирать их кончиком хвоста.
Потом Страшила и Железный Дровосек нежно пожимали Элли руки, а Тотошка прощался со Львом, уверяя, что он никогда не забудет своего большого друга и будет передавать от него привет всем львам, которых ему придется встретить в Канзасе.
Неожиданно налетел вихрь.
– Скорей! Скорей! – закричал встревоженный волшебник: он заметил, что рвущийся в небо шар до предела натянул веревку и грозил вот-вот оборвать ее.
И вдруг – трах! – веревка лопнула, и баллон взвился вверх.
– Вернитесь! Вернитесь! – в отчаянии ломала руки Элли. – Возьмите меня в Канзас!
Но – увы! – воздушный шар не смог спуститься, ураган подхватил его и помчал с ужасной силой.
– Прощай, дитя мое! – слабо донесся голос Гудвина, и шар скрылся среди быстро набежавших туч.
Жители Изумрудного города долго смотрели на небо, а потом разошлись по домам.
Назавтра случилось солнечное затмение. Граждане Изумрудного города решили, что это Гудвин затемнил Солнце, спускаясь на него.
По всей стране разнеслась молва, что бывший правитель Изумрудного города живет на Солнце.
Народ долго помнил о Гудвине, но не слишком горевал о нем: ведь у них был новый правитель – Страшила Мудрый, настолько умный, что ум не помещался у него в голове и выпирал наружу в виде иголок и булавок.
Жители Изумрудного города страшно возгордились:
– Нет в мире другого города, правитель которого был бы набит соломой!
Бедная Элли осталась в стране Гудвина. Рыдая, вернулась она во дворец.
Ей казалось, что у нее уже нет надежды на возвращение в Канзас.
Снова в путь
Элли безутешно плакала, закрыв лицо руками. В комнате послышались тяжелые шаги Железного Дровосека.
– Я побеспокоил тебя? – смущенно спросил Дровосек. – Я понимаю, что тебе не до меня, ты сама расстроена, но, видишь ли, мне хочется поплакать о Гудвине, а некому вытирать мои слезы: Лев сам плачет на заднем дворе, а Страшила – правитель, неудобно беспокоить его по пустякам…
– Бедняжка!..
Элли встала и, пока Дровосек плакал, старательно вытирала слезы полотенцем. Когда же он кончил, то очень старательно смазался маслом из драгоценной масленки, поднесенной ему Мигунами, – он всегда носил ее у пояса.
Ночью Элли приснилось, что огромная птица несет ее высоко над канзасской степью и вдали уже виден родной дом. Девочка радостно закричала. Она пробудилась от собственного крика и не могла больше заснуть от разочарования.
Утром компания собралась в тронном зале поговорить о будущем. Новый правитель Изумрудного города торжественно восседал на мраморном троне; остальные почтительно стояли перед ним.
Сделавшись правителем, Страшила сразу осуществил свои давнишние мечты: он завел себе зеленый бархатный костюм и новую шляпу, к полям которой приказал подшить серебряные бубенчики от старой шляпы; на ногах у него блестели ярко начищенные зеленые сапоги из самой лучшей кожи.
– Мы заживем припеваючи, – заявил новый правитель. – Нам принадлежит дворец и весь Изумрудный город. Как подумаю, что еще недавно я пугал ворон в поле, а теперь стал правителем Изумрудного города, то, скажу по совести, мне нечего жаловаться на судьбу…
Тотошка сразу осадил несколько зазнавшегося Страшилу:
– А кого ты должен благодарить за все это твое благополучие?
– Элли, разумеется! – сконфузился Страшила. – Без нее я и теперь торчал бы на колу…
– Если бы тебя не растрепали бури и не расклевали вороны, – добавил Дровосек. – Я и сам ржавел бы в диком лесу… Много-много сделала для нас Элли. Ведь я получил сердце, а это моя заветная мечта.
– Обо мне нечего и говорить, – молвил Лев. – Я теперь храбрее всех зверей на свете. Хотелось бы мне, чтобы на дворец напали людоеды или саблезубые тигры, я бы с ними расправился!
– Если бы Элли осталась во дворце, – продолжал Страшила, – мы жили бы счастливо!
– Это невозможно, – возразила девочка. – Я хочу вернуться в Канзас, к папе с мамой…
– Как же это сделать? – спросил Железный Дровосек. – Страшила, милый друг, ты умнее нас всех, пожалуйста, пусти в ход свои новые мозги!
Страшила стал думать так усердно, что иголки и булавки полезли из его головы.
– Надо вызвать Летучих Обезьян! – сказал он после долгого размышления. – Пусть они перенесут тебя на родину!
– Браво, браво! – закричала Элли. – Я совсем о них забыла…
Она принесла Золотую Шапку, надела ее и сказала волшебные слова. Через открытые окна в зал ворвалась стая Летучих Обезьян.
– Что тебе угодно, владетельница Золотой Шапки? – спросил предводитель.
– Перенесите нас с Тотошкой через горы и доставьте в Канзас.
Уорра покачал головой.
– Канзас за пределами страны Гудвина. Мы не можем лететь туда. Мне очень жаль, но ты истратила второе волшебство Шапки напрасно.
Он раскланялся, и стая с шумом унеслась.
Элли была в отчаянии. Страшила опять стал думать, и голова его раздулась от напряжения. Элли даже испугалась за него.
– Позвать Солдата! – приказал Страшила.
Дин Гиор со страхом вошел в тронный зал, в котором никогда не бывал при Гудвине. У него спросили совета.
– Только Гудвин знал, как перебраться через горы, – сказал Солдат. – Но, я думаю, Элли поможет добрая волшебница Стелла из Розовой страны. Она могущественнее всех волшебниц этой страны: ей известен секрет вечной юности. Хотя дорога в ее страну трудна, я все же советую обратиться к Стелле.
Солдат почтительно поклонился правителю и вышел.
– Элли придется отправиться в Розовую страну. Ведь если Элли останется здесь, во дворце, то она никогда не попадет в Канзас. Изумрудный город – это не Канзас, а Канзас – не Изумрудный город, – изрек Страшила.
Остальные молчали, подавленные мудростью его слов.
– Я пойду с Элли, – внезапно сказал Лев. – Мне надоел город. Я дикий зверь и соскучился по лесам. Да и надо защищать Элли во время путешествия.
– Правильно! – вскричал Железный Дровосек. – Пойду точить топор: он, кажется, затупился.
Элли радостно бросилась к Железному Дровосеку.
– Мы выступаем завтра утром! – сказал Страшила.
– Как? И ты идешь?! – закричали все в изумлении. – А Изумрудный город?
– Подождет моего возвращения! – хладнокровно возразил Страшила. – Без Элли я сидел бы на колу в пшеничном поле и пугал ворон. Без Элли я не получил бы своих замечательных мозгов. Без Элли я не стал бы правителем Изумрудного города. И если после всего этого я покинул бы Элли в беде, то вы, друзья мои, могли бы назвать Страшилу неблагодарным и были бы правы!
Новые мозги сделали Страшилу красноречивым!
Элли от всей души благодарила друзей.
– Завтра, завтра в поход! – весело закричала она.
– Эй-гей-гей-го! Завтра, завтра в поход! – запел Страшила и, боязливо оглянувшись, зажал себе рот: он был правителем Изумрудного города, и ронять свое достоинство ему не следовало.
Править городом до своего возвращения Страшила назначил Солдата. Дин Гиор тотчас уселся на трон и уверил Страшилу, что во время его отсутствия дела будут идти самым наилучшим образом, потому что он, Солдат, не оставит своего поста ни на минутку и даже есть и спать будет на троне. Таким образом, никто не сможет захватить власть, пока правитель будет путешествовать.
Рано утром Элли и ее друзья пришли к городским воротам. Фарамант удивился, что они снова пускаются в дальнее и опасное путешествие.
– Вы наш правитель, – сказал он Страшиле, – и должны вернуться как можно скорее.
– Мне нужно отправить Элли в Канзас, – важно ответил Страшила. – Передайте моим подданным привет, и пусть они не беспокоятся обо мне: меня нельзя ранить, и я вернусь невредимым.
Элли дружески простилась со Стражем Ворот, снявшим со всех очки, и путешественники двинулись на юг. Погода была прекрасная, кругом расстилалась восхитительная страна, и все были в отличном настроении.
Элли верила, что Стелла вернет ее в Канзас; Тотошка вслух мечтал о том, как он разделается с хвастунишкой Гектором; Страшила и Железный Дровосек радовались, что помогают Элли; Лев наслаждался сознанием своей смелости, желая встретиться со зверями и доказать им, что он их царь.
Отойдя на далекое расстояние, путники оглянулись в последний раз на башни Изумрудного города.
– А ведь Гудвин был не таким уж плохим волшебником, – сказал Железный Дровосек.
– Еще бы! – согласился Страшила. – Сумел же он дать мне мозги! Да еще какие острые мозги!
– Гудвину выпить бы немножко смелости, приготовленной им для меня, и он стал бы человеком хоть куда! – сказал Лев.
Элли молчала. Гудвин не выполнил обещания вернуть ее в Канзас, но девочка не винила его. Он сделал все, что мог, и не его вина, что замысел не удался. Ведь, как признавался и сам Гудвин, он вовсе не был волшебником.
Наводнение
Несколько дней путники шли прямо на юг. Фермы попадались все реже и реже и, наконец, исчезли. Вокруг до самого горизонта тянулась степь. Даже дичи было мало в этих пустынных местах, и Льву приходилось долго рыскать по ночам в поисках добычи. Тотошка не мог сопровождать Льва в его продолжительных прогулках, но тот, возвращаясь, всегда приносил приятелю кусок мяса в зубах.
Путников не смущали трудности. Они шли вперед и вперед.
Однажды в полдень их остановила широкая река с низкими берегами, покрытыми ивами, единственная большая река в Волшебной стране. Это была та же самая река, где когда-то терпел бедствие Страшила, но наши герои этого не знали. Они озадаченно посмотрели друг на друга.
– Будем делать плот? – спросил Железный Дровосек.
Страшила скорчил отчаянную гримасу: он не позабыл приключения с шестом по дороге в Изумрудный город.
– Уж лучше бы нас перенесли Летучие Обезьяны, – пробурчал он. – Если я опять застряну посреди реки, то спасать меня некому: здесь аистов нет.
Но Элли не согласилась. Она не хотела тратить последнее волшебство Золотой Шапки, когда неизвестно, какие трудности еще встретятся на пути и как их примет Стелла.
Железный Дровосек сделал к вечеру плот, и компания поплыла через реку. Страшила действовал шестом осторожно, держась подальше от борта. Зато Железный Дровосек работал изо всех сил. Река оказалась мелководной и тихой; путники благополучно переплыли ее и вышли на плоский унылый берег.
– Какое скучное место! – заявил Лев, сморщив нос.
– И переночевать-то негде, – молвила Элли. – Идемте вперед.
Не прошли путники и тысячи шагов, как перед ними снова блеснула река. Они были на острове.
– Скверное дело! – сказал Страшила. – Очень скверное дело! Придется вызвать Летучих Обезьян, пикапу, трикапу!
Но девочка, рассчитывая утром обогнуть остров на плоту, решила переночевать здесь, так как было уже поздно. Собрали сухой травы и устроили ей сносную постель. Поужинав, Элли легла спать под надежной охраной друзей. Льву и Тотошке приходилось провести ночь с пустыми желудками, но они смирились с этим и заснули.
Страшила и Железный Дровосек стояли около спящих и смотрели на берег реки. Хотя один имел теперь мозги, а другой сердце, все же они никогда не уставали и не спали.
Сначала все было спокойно. Но потом на горизонте блеснула зарница, за ней другая, третья… Железный Дровосек озабоченно покачал головой. В стране Гудвина грозы случались редко, зато достигали неимоверной силы. Грома еще не было слышно. Восточный край неба быстро темнел: там громоздились клубы туч, все чаще озаряемых молниями. Страшила глядел на небо в недоумении.
– Что там такое? – бормотал он. – Не Гудвин ли там, вверху, зажигает спички?
Страшила за свою недолгую жизнь еще не видал грозы.
– Будет сильный дождь! – сказал Железный Дровосек.
– Дождь? А что это такое? – в беспокойстве спросил Страшила.
– Вода, падающая с неба. Дождь вреден нам обоим: с тебя смоет краску, а я заржавею.
– Ай-яй-яй-яй! – замотал головой Страшила. – Давай разбудим Элли.
– Подождем немного, – сказал Железный Дровосек. – Мне не хочется ее беспокоить: она устала сегодня. А гроза, может быть, пройдет стороной.
Но гроза приближалась. Скоро тучи закрыли полнеба, заблистали молнии, и раскаты грома явственно доносились до слуха дозорных.
– Что это там шумит? – в испуге спрашивал Страшила.
Но Железному Дровосеку некогда было объяснять.
– Плохо дело! – крикнул он и разбудил Элли.
– Что такое? Что случилось? – спросила девочка.
– Приближается страшная гроза! – закричал Железный Дровосек.
Лев тоже проснулся. Он сразу понял опасность.
– Скорее вызывай Летучих Обезьян, иначе мы погибли! – заревел он во все горло.
Испуганная Элли, нетвердо держась на ногах, начала говорить волшебные слова:
– Бамбара, чуфара…
– У‑ар-ра!.. – яростно взвизгнул налетевший вихрь и сорвал Золотую Шапку с головы Элли.
Шапка взлетела, белой звездочкой блеснула во мраке и исчезла. Элли зарыдала, но громкий раскат, раздавшийся над головами путников, заглушил ее рыдания.
– Не плачь, Элли! – заревел ей на ухо Лев. – Помни, что я теперь храбрее всех зверей на свете!
– Помни, что у меня чудесные мозги, наполненные необычайными мыслями! – прокричал Страшила.
– Помни о моем сердце, которое не стерпит, если тебя обидят! – добавил Железный Дровосек.
Три друга встали вокруг Элли, мужественно готовясь встретить натиск бури.
И буря грянула! Налетел ветер. Косой дождь больно хлестал Льва и Элли крупными каплями. Лев встал спиной к ветру, расставил лапы, выгнул спину. Под ним оказался уютный шалаш, куда забрались Элли и Тотошка, спасаясь от ливня.
Железный Дровосек взялся за масленку, но махнул рукой: спастись от ржавчины при таком ливне можно было только в бочке с маслом.
Страшила, насквозь промоченный дождем, сразу отяжелевший, имел самый жалкий вид. Своими мягкими непослушными руками он защищал от дождя краску на лице.
– Так вот что такое дождь! – бормотал Страшила. – Когда порядочные люди хотят купаться, они лезут в воду и вовсе не нуждаются в том, чтобы кто-то невидимый поливал их сверху. Как только вернусь в Изумрудный город, объявлю закон, запрещающий дожди!..
Гроза не переставала до утра. При первых лучах рассвета путники с ужасом увидели, как косматые волны Большой реки заливают остров.
– Мы утонем! – закричал Страшила, прикрывая рукой полусмытые глаза.
– Держись крепче! – ответил Железный Дровосек, стараясь перекричать шум бури и плеск волн. – Держись за меня.
Он расставил ноги, врыв их в песчаную почву, и крепко оперся о топор. В таком положении он был непоколебим, как скала.
Страшила, Элли и Лев вцепились в Железного Дровосека и застыли в ожидании.
И вот, крутясь, налетел первый вал и накрыл путников с головой. Когда он схлынул, среди воды стоял Дровосек, а остальные путники цеплялись за него с мужеством отчаяния. Железный Дровосек заржавел, и теперь никакая буря не сдвинула бы его с места. Но остальным приходилось плохо. Легкий Страшила весь был на поверхности воды, и волны бросали его во все стороны. Лев стоял на задних лапах, отплевываясь от воды. Элли барахталась в волнах, охваченная ужасом.
Лев увидел, что девочка тонет.
– Садись на меня, – пропыхтел он, – поплывем на ту сторону реки! – И он опустился перед Элли на все четыре лапы.
Собрав последние силы, девочка вскарабкалась на спину Льва и судорожно вцепилась в мокрую косматую гриву. Тотошку она крепко держала левой рукой.
– Прощайте, друзья! – проревел Лев и, оттолкнувшись от Железного Дровосека, заработал лапами, мощно рассекая волны.
– …щай! – слабо донесся отклик Страшилы, и Железный Дровосек исчез за пеленой дождя.
Лев плыл долго и упорно. Силы покидали его, но смелость наполняла его сердце, и, гордый собой, он испустил грозный рев. Этим торжествующим ревом Лев хотел показать, что он готов погибнуть, но ни одна капля трусости не закрадется в его смелое сердце.
Но что за чудо?
Из влажной мглы послышался ответный рев Льва.
– Там земля! Туда! Туда!
С удесятеренной силой Лев бросился вперед, и перед ним зачернел неведомый высокий берег. Ему отвечал не лев, а эхо!
Лев выбрался на землю, опустил окоченевшую Элли, обняв ее передними лапами, и стал согревать своим горячим дыханием.
Страшила держался за Железного Дровосека, пока намокшие руки еще служили ему. Потом волны оторвали его от Дровосека и повлекли, качая, как щепку. Умная голова Страшилы с драгоценными мозгами оказалась тяжелее туловища. Мудрый правитель Изумрудного города плыл вниз головой, и вода смывала последнюю краску с его глаз, рта и ушей.
Железный Дровосек еще виднелся среди волн, но поднимающаяся вода заливала его. Вот лишь воронка осталась над водой, потом скрылась и она. И неустрашимый добродушный Железный Дровосек весь исчез в разбушевавшейся реке.
* * *
Элли, Лев и Тотошка три дня ожидали на берегу спада воды. Погода была прекрасная, солнце ярко светило, и вода в Большой реке убывала быстро. На четвертый день Лев поплыл к острову. Элли с Тотошкой в руках сидела на его спине.
Выйдя на остров, Элли увидела, что река покрыла его илом и тиной. Лев и девочка пошли в разные стороны, наудачу. И скоро впереди показалась бесформенная фигура, облепленная илом и опутанная водорослями. Нетрудно было узнать в этой фигуре Железного Дровосека. Огромными прыжками Лев примчался на зов Элли и разбросал засохшую грязь и тину.
Непобедимый Железный Дровосек стоял в той же позе, в которой остался посреди волн. Элли пучком травы тщательно оттерла заржавевшие члены Дровосека, отвязала от его пояса масленку и смазала ему челюсти…
– Спасибо, милая Элли, – были первые его слова, – ты снова возвращаешь меня к жизни! Здравствуй, Лев, старый дружище! Как я рад тебя видеть!
Лев отвернулся: он плакал от радости и спешил вытереть слезы кончиком хвоста.
Скоро все суставы Железного Дровосека пришли в действие, и он весело зашагал рядом с Элли, Тотошкой и Львом. Они искали плот. По дороге Тотошка бросился к куче водорослей, принюхался и начал разрывать ее лапами.
– Водяная крыса? – спросила Элли.
– Стану я беспокоиться из-за такой дряни, – с пренебрежением ответил Тотошка. – Нет, тут кое-что получше!
Под водорослями что-то вдруг блеснуло, и, к великой радости Элли, показалась Золотая Шапка. Девочка нежно обняла песика и поцеловала его в мордочку, измазанную тиной, а Шапку спрятала в корзинку.
Путники нашли плот, крепко привязанный к шестам, вбитым в землю. Очистив плот от грязи и тины, они поплыли вниз по реке, огибая остров, на котором потерпели бедствие. Миновав длинную песчаную косу, путешественники попали в главное русло Большой реки. На правом берегу виднелся кустарник. Элли попросила Железного Дровосека править туда; она увидела на кусте шляпу Страшилы.
– Ура! – закричали все четверо.
Скоро нашли и самого Страшилу, висевшего среди кустов в причудливой позе. Он был мокрый и растрепанный и не отвечал на приветствия и расспросы товарищей: вода начисто смыла у него рот, глаза и уши. Не удалось найти только великолепную трость Страшилы – подарок Мигунов: очевидно, ее унесло водой.
Друзья вытащили Страшилу на песчаный берег, потрясли солому и разостлали на солнышке, развесили сушить костюм и шляпу. Голова сушилась вместе с отрубями; вытряхивать драгоценные мозги девочка побоялась.
Когда солома высохла, Страшилу набили, голову поставили на место, и Элли вытащила из-за пояса краски и кисть в непромокаемой жестяной коробке, которыми она запаслась в Изумрудном городе.
Элли прежде всего нарисовала Страшиле правый глаз, и этот правый глаз дружески и очень нежно подмигнул ей. Потом появился второй глаз, а за ним уши, и Элли еще не закончила рот, как веселый Страшила уже пел, мешая девочке рисовать:
– Эй-гей-гей-го! Элли опять спасла меня! Эй-гей-гей-го! Я снова-снова-снова с Элли!
Он пел, приплясывая, и уже не боялся, что его увидит кто-нибудь из подданных: ведь это была совершенно пустынная страна.
Лев становится царем зверей
Отдохнув после пережитых бедствий, путешественники отправились дальше. За рекой местность стала веселее. Появились тенистые рощи и зеленые лужайки. Через два дня путники вошли в огромный лес.
– Какой очаровательный лес! – восхитился Лев. – Я не видел еще таких прелестных дремучих лесов. Мой родной лес куда хуже.
– Уж очень здесь мрачно, – заметил Страшила.
– Ни чуточки! – ответил Лев. – Смотрите, какой мягкий ковер из сухих листьев под ногами! И какой густой и зеленый мох свешивается с деревьев! Я хотел бы остаться здесь навсегда!
– В этом лесу, наверное, есть дикие звери, – сказала Элли.
– Странно было бы, если бы такое прекрасное место не было населено, – ответил Лев.
Как бы в подтверждение этих слов из чащи донесся глухой рев множества зверей. Элли испугалась, но Лев успокоил ее.
– Под моей охраной ты в безопасности. Разве ты забыла, что Гудвин дал мне смелость?
Утоптанная тропинка привела их на огромную поляну, где собрались тысячи зверей. Там были медведи, тигры, волки, лисицы и множество других животных. Ближайшие звери с любопытством уставились на Льва; по всей поляне разнесся слух о его прибытии.
Шум и рев стихли. Большой Тигр выступил вперед и низко поклонился Льву:
– Приветствуем тебя, царь зверей! Ты пришел вовремя, чтобы уничтожить нашего врага и принести мир животным этого леса.
– Кто ваш враг? – спросил Лев.
– В нашем лесу появился страшный зверь. С виду он походит на паука, но в десять раз больше буйвола. Когда он шагает через лес, за ним остается широкий след от поваленных деревьев. И кто бы ему ни попался, он хватает передними лапами, тащит ко рту и высасывает кровь. Мы собрались обсудить, как нам избавиться от него.
Лев подумал.
– Есть львы в вашем лесу? – спросил он.
– К великому нашему несчастью, ни одного.
– Если я уничтожу вашего врага, признаете ли вы меня своим царем и будете ли мне повиноваться?
– О, с удовольствием, с великим удовольствием! – дружно заревело звериное сборище.
– Я иду на бой! – отважно заявил Лев. – Охраняйте моих друзей, пока я не вернусь. Где чудовище?
– Вон там, – показал Тигр. – Иди по тропинке, пока не дойдешь до больших дубов. Там Паук переваривает пойманного утром быка.
Лев дошел до логовища Паука, окруженного поваленными деревьями. Паук был куда противнее двенадцатиногого зверя, сделанного Гудвином, и Лев рассматривал врага с отвращением. К огромному туловищу Паука прикреплялись мощные лапы со страшными когтями. Зверь был очень силен на вид, но голова его сидела на тонкой длинной шее.
«Вот самое слабое место чудовища», – подумал Лев. Он решил напасть на спящего Паука немедленно.
Изловчившись, Лев сделал длинный прыжок и упал прямо на спину зверя. Прежде чем Паук опомнился от сна, Лев ударом когтистой лапы перервал его тонкую шею и быстро отпрыгнул. Голова Паука покатилась прочь, а туловище зацарапало когтями землю и вскоре затихло.
Лев отправился обратно. Придя на поляну, где звери с нетерпением ожидали его возвращения, он гордо заявил:
– Отныне вы можете спать спокойно: страшное чудовище уничтожено!
Восторженный рев звериного стада был ему ответом. Звери торжественно поклялись в верности Льву, а он сказал:
– Я вернусь, как только отправлю Элли в Канзас, и буду править вами мудро и милостиво.
Стелла, вечно юная волшебница Розовой страны
Остальной путь через лес прошел без приключений. Когда путешественники вышли из леса, перед ними открылась круглая скалистая гора. Обойти ее было нельзя – с обеих сторон дороги были глубокие овраги.
– Трудненько карабкаться на эту гору! – сказал Страшила. – Но гора – ведь это не ровное место, и раз она стоит перед нами, значит, надо через нее перелезть!
И он полез вверх, плотно прижимаясь к скале и цепляясь за каждый выступ. Остальные двинулись за Страшилой.
Они поднялись довольно высоко, как вдруг грубый голос крикнул из-за скалы:
– Назад!
– Кто там? – спросил Страшила.
Из-за скалы показалась чья-то странная голова.
– Это гора наша, и никому не позволено переходить ее.
– Но нам же нужно перейти, – вежливо возразил Страшила. – Мы идем в страну Стеллы, а другого пути здесь нет.
– Мы, Марраны, никого не пропускаем через свои владения!
На скалу с хохотом выскочил маленький коренастый человечек с большой головой на короткой шее. Его толстые руки сжимались в огромные кулаки, которыми он угрожал путникам. Человечек не казался очень сильным, и Страшила смело полез кверху.
Но тут случилась удивительная вещь. Странный человек, резко оттолкнувшись от земли, подпрыгнул в воздух, как резиновый мяч, и с лету ударил Страшилу в грудь головой и сильными кулаками. Страшила, кувыркаясь, полетел к подножию горы, а человечек, ловко став на ноги, захохотал и крикнул:
– А‑ля-ля! Вот как это делается у нас, Марранов.
И точно по сигналу, из-за скал и бугров выскочили сотни Прыгунов: так называли их соседние народы.
– А‑ля-ля! А‑ля-ля! Попробуйте пройти! – грянул разноголосый хор.
Лев рассвирепел и стремительно бросился в атаку, грозно рыча и хлеща себя хвостом по бокам. Но несколько Прыгунов, взлетев, так ударили его своими плоскими головами и крепкими кулаками, что Лев покатился по склону горы, кувыркаясь и мяукая от боли, как самый простой кот. Он встал сконфуженный и, хромая, отошел от подножия горы.
Железный Дровосек взмахнул топором, попробовал гибкость суставов и решительно полез вверх.
– Вернись, вернись! – закричала Элли и с плачем схватила его за руку. – Ты разобьешься о скалы! Как мы будем тебя собирать в этой глухой стране?
Слезы Элли мигом заставили Дровосека вернуться.
– Позовем Летучих Обезьян, – предложил Страшила. – Здесь без них никак не обойтись, пикапу, трикапу!
Элли вздохнула:
– Если Стелла встретит нас недружелюбно, мы будем беззащитны…
И здесь вдруг заговорил Тотошка:
– Стыдно признаваться умному псу, но правду не скроешь: мы с тобой, Элли, ужасные глупцы.
– Почему? – удивилась Элли.
– А как же! Когда нас с тобой нес предводитель Летучих Обезьян, он рассказал нам историю Золотой Шапки… Ведь Шапку-то можно передавать!
– Ну и что же? – все еще не понимала Элли.
– Когда ты истратишь последнее волшебство Золотой Шапки, ты передашь ее Страшиле, и у него опять будет три волшебства.
– Ура! Ура! – закричали все. – Тотошка, ты наш спаситель!
– Жаль, конечно, – скромно сказал песик, – что эта блестящая мысль не пришла мне в голову раньше. Мы тогда не пострадали бы от наводнения…
– Ничего не поделаешь, – сказала Элли. – Что прошло, того не воротишь…
– Позвольте, позвольте, – вмешался Страшила. – Это что же получается… Три, да три, да три… – Он долго считал по пальцам. – Выходит, что я, да Дровосек, да Лев, мы можем приказывать Летучим Обезьянам еще целых девять раз!
– А про меня ты позабыл? – обиженно сказал Тотошка. – Я ведь тоже могу быть владельцем Золотой Шапки!
– Я про тебя не позабыл, – со вздохом признался Страшила, – да я не умею считать дальше десяти…
– Это огромный недостаток для правителя, – серьезно заметил Железный Дровосек, – и я займусь с тобой в свободное время.
Теперь Элли смело могла истратить свое последнее волшебство. Она говорила волшебные слова, а Страшила повторял их, приплясывая от радости и грозя кулаками воинственным Марранам.
В воздухе раздался шум, и стая Летучих Обезьян опустилась на землю.
– Что прикажете, владелица Золотой Шапки? – спросил предводитель.
– Отнесите нас к дворцу Стеллы, – ответила Элли.
– Будет исполнено!
И путники мигом очутились в воздухе.
Пролетая над горой, Страшила делал чудовищные гримасы Прыгунам и отчаянно ругался. Прыгуны высоко подскакивали в воздух, но не могли достать Обезьян и бесновались от злости.
Кольцо гор, а с ними и вся страна Марранов быстро остались позади, и взору путников открылась живописная плодородная страна Болтунов, которой управляла добрая волшебница Стелла.
Болтуны были милые, приветливые люди и хорошие работники. У них был единственный недостаток – они страшно любили болтать. Даже находясь в одиночестве, они по целым часам говорили сами с собой. Могущественная Стелла никак не могла отучить их от болтовни. Однажды она сделала их немыми, но Болтуны быстро нашли выход из положения: они научились объясняться жестами и по целым дням толпились на улицах и площадях, размахивая руками. Стелла увидела, что даже ей не под силу переделать Болтунов, и вернула им голос.
Любимым цветом в стране Болтунов был розовый, как у Жевунов – голубой, у Мигунов – фиолетовый, а в Изумрудном городе – зеленый. Дома и изгороди были окрашены в розовый, а жители одевались в ярко-розовые платья.
Перед дворцом Стеллы Обезьяны опустили друзей. Караул у дворца несли три красивые девушки. Они с удивлением и страхом смотрели на появление Летучих Обезьян.
– Прощай, Элли! – дружески сказал предводитель Обезьян Уорра. – Сегодня ты вызывала нас в последний раз.
– Прощайте, прощайте! – закричала Элли. – Большое спасибо!
И Обезьяны улетели с шумом и смехом.
– Не слишком радуйтесь! – крикнул им вдогонку Страшила. – В следующий раз у вас будет новый повелитель, и от него вы не отделаетесь так просто.
– Можно ли видеть добрую волшебницу Стеллу? – с замиранием сердца спросила Элли девушку из караула.
– Скажите, кто вы такие и зачем сюда прибыли, и я доложу о вас, – ответила старшая.
Элли рассказала, и девушка отправилась с докладом, а остальные приступили к путникам с расспросами. Но они еще не успели ничего узнать, как девушка вернулась:
– Стелла просит вас во дворец.
Элли умылась. Страшила почистился. Железный Дровосек смазал суставы и тщательно отполировал их тряпочкой с наждачным порошком, а Лев долго отряхивался, разбрасывая пыль. Их накормили сытным обедом, а затем провели в богато убранный розовый зал, где на троне сидела волшебница Стелла. Она показалась Элли очень красивой и доброй и удивительно юной, хотя вот уже много веков правила страной Болтунов. Стелла ласково улыбнулась вошедшим, усадила их в кресла и, обращаясь к Элли, молвила:
– Рассказывай свою историю, дитя мое!
Элли начала длинный рассказ. Стелла и ее приближенные слушали с большим интересом и сочувствием.
– Чего же ты хочешь от меня, дитя мое? – спросила Стелла, когда Элли окончила.
– Верните меня в Канзас, к папе и маме. Когда я подумаю о том, как они горюют обо мне, у меня сердце сжимается от боли и жалости…
– Но ведь ты рассказывала, что Канзас – скучная и серая пыльная степь. А посмотри, как красиво у нас!
– И все же я люблю Канзас больше вашей великолепной страны! – горячо ответила Элли. – Канзас – моя родина.
– Твое желание исполнится. Но ты должна отдать мне Золотую Шапку.
– О, с удовольствием, сударыня! Правда, я собиралась передать ее Страшиле, но уверена, что вы распорядитесь ею лучше, чем он.
– Я распоряжусь так, чтобы волшебства Золотой Шапки пошли на пользу твоим друзьям, – сказала Стелла и обратилась к Страшиле: – Что вы думаете делать, когда Элли покинет нас?
– Я хотел бы вернуться в Изумрудный город, – с достоинством ответил Страшила. – Гудвин назначил меня правителем Изумрудного города, а правитель должен жить в том городе, которым он правит. Ведь не могу же я управлять Изумрудным городом, если останусь в Розовой стране! Но меня смущает обратный путь через страну Марранов и через Большую реку, где я тонул.
– Получив Золотую Шапку, я вызову Летучих Обезьян, и они отнесут вас в Изумрудный город. Нельзя лишать народ такого удивительного правителя.
– Так это правда, что я удивительный? – просияв, спросил Страшила.
– Больше того: вы единственный! И я хочу, чтобы вы стали моим другом.
Страшила с восхищением поклонился доброй волшебнице.
– А вы чего хотите? – обратилась Стелла к Железному Дровосеку.
– Когда Элли покинет эту страну, – печально начал Дровосек, – я буду очень грустить. Но я хотел бы попасть в страну Мигунов, избравших меня правителем. Я постараюсь хорошо править Мигунами, которых очень люблю.
– Второе волшебство Золотой Шапки заставит Летучих Обезьян перенести вас в страну Мигунов. У вас нет таких замечательных мозгов, как у вашего товарища Страшилы Мудрого, но вы имеете любящее сердце, у вас такой блестящий вид, и я уверена, что вы будете прекрасным правителем для Мигунов. Позвольте и вас считать своим другом.
Железный Дровосек медленно склонился перед Стеллой.
Потом волшебница обратилась ко Льву:
– Теперь вы скажите о ваших желаниях.
– За страной Марранов лежит чудесный дремучий лес. Звери этого леса признали меня своим царем. Поэтому я очень хотел бы вернуться туда и провести там остаток своих дней.
– Третье волшебство Золотой Шапки перенесет Смелого Льва к его зверям, которые, конечно, будут счастливы, имея такого царя. И я тоже рассчитываю на вашу дружбу.
Лев важно подал Стелле большую сильную лапу, и волшебница дружески пожала ее.
– Потом, – сказала Стелла, – когда исполнятся три последних волшебства Золотой Шапки, я верну ее Летучим Обезьянам, чтобы никто больше не мог беспокоить их выполнением своих желаний, часто бессмысленных и жестоких.
Все согласились с тем, что лучше распорядиться Шапкой невозможно, и прославили мудрость и доброту Стеллы.
– Но как же вы вернете меня в Канзас, сударыня? – спросила девочка.
– Серебряные башмачки перенесут тебя через леса и горы, – ответила волшебница. – Если бы ты знала их чудесную силу, то вернулась бы домой в тот же день, когда твой домик раздавил злую Гингему.
– Но ведь тогда я не получил бы моих удивительных мозгов! – воскликнул Страшила. – Я до сих пор пугал бы ворон на фермерском поле.
– А я не получил бы моего любящего сердца, – сказал Железный Дровосек. – Я стоял бы в лесу, ржавел, пока не рассыпался бы в прах!
– А я до сих пор оставался бы трусом, – проревел Лев, – и, конечно, не сделался бы царем зверей!
– Все это правда, – ответила Элли, – и я ничуть не жалею, что мне так долго пришлось прожить в стране Гудвина. Я только слабая, маленькая девочка, но я любила вас и всегда старалась помочь вам, мои милые друзья! Теперь же, когда исполнились ваши заветные желания, я должна вернуться домой, как было написано в волшебной книге Виллины.
– Нам больно и грустно расставаться с тобой, Элли, – сказали Страшила, Дровосек и Лев, – но мы благословляем ту минуту, когда ураган забросил тебя в Волшебную страну. Ты научила нас самому дорогому и самому лучшему, что есть на свете, – дружбе!..
Стелла улыбнулась девочке. Элли обняла за шею большого Смелого Льва и нежно перебирала его густую косматую гриву. Она целовала Железного Дровосека, и тот горько плакал, забыв о своих челюстях. Она гладила мягкого, набитого соломой Страшилу и целовала его милое, добродушное, разрисованное лицо…
– Серебряные башмачки обладают многими чудесными свойствами, – сказала Стелла, – но самое удивительное их свойство в том, что они за три шага перенесут тебя хоть на край света. Надо только стукнуть каблуком о каблук и назвать место…
– Так пусть же они перенесут меня сейчас в Канзас!
Но, когда Элли подумала, что она навсегда расстается со своими верными друзьями, с которыми ей так много пришлось пережить вместе, которых она столько раз спасала и которые в свою очередь самоотверженно спасали ее, сердце ее сжалось от горя, и она громко зарыдала.
Стелла сошла с трона, нежно обняла Элли и поцеловала ее на прощание.
– Пора, дитя мое! – ласково сказала она. – Расставаться тяжело, но час свидания сладок. Вспомни, что сейчас ты будешь дома и обнимешь своих родителей. Прощай, не забывай нас!
– Прощай, прощай, Элли! – воскликнули друзья.
Элли схватила Тотошку, стукнула каблуком о каблук и крикнула башмачкам:
– Несите меня в Канзас, к папе и маме!
Неистовый вихрь закружил Элли, все слилось перед ее глазами, солнце заискрилось на небе огненной дугой, и, прежде чем девочка успела испугаться, она опустилась на землю так внезапно, что перевернулась несколько раз и выпустила Тотошку из рук…
Заключение
Когда Элли опомнилась, она увидела невдалеке новый домик, поставленный ее отцом вместо фургона, унесенного ураганом.
Мать в изумлении смотрела на нее с крыльца, а со скотного двора бежал радостный отец, отчаянно размахивая руками.
Элли бросилась к ним и заметила, что она в одних чулках: волшебные башмачки потерялись во время последнего, третьего, шага девочки. Но Элли не пожалела о них: ведь в Канзасе нет чудес. Она очутилась на руках у матери, и та осыпала поцелуями и обливала слезами личико Элли.
– Уж не с неба ли ты вернулась к нам, моя крошка?
– О, я была в Волшебной стране Гудвина, – просто ответила девочка. – Но я все время думала о вас… и… ездил ли ты, папочка, на ярмарку?
– Ну что ты, Элли, – ответил тот со смехом и слезами. – До ярмарки ли нам тут было, когда мы считали тебя погибшей и страшно горевали о тебе!
Несколько дней прошло в беспрерывных рассказах Элли об удивительной стране Гудвина и о верных друзьях – Мудром Страшиле, Добром Дровосеке, Смелом Льве.
Тотошка присутствовал при этих рассказах. Он не мог подтвердить их словами, так как, вернувшись в Канзас, потерял дар речи, но его хвостик красноречиво говорил вместо языка.
Излишне говорить, что бой с соседским Гектором произошел в первый же вечер после возвращения Тотошки из Волшебной страны. Битва окончилась вничью, и противники почувствовали такое сильное уважение друг к другу, что стали неразлучными друзьями, и с тех пор делали набеги на окрестных собак только вместе.
Фермер Джон поехал в соседний городок на ярмарку и повел девочку в цирк. Там Элли неожиданно встретила Джеймса Гудвина, и взаимной радости не было конца.
7. Зощенко М. "Карусель"
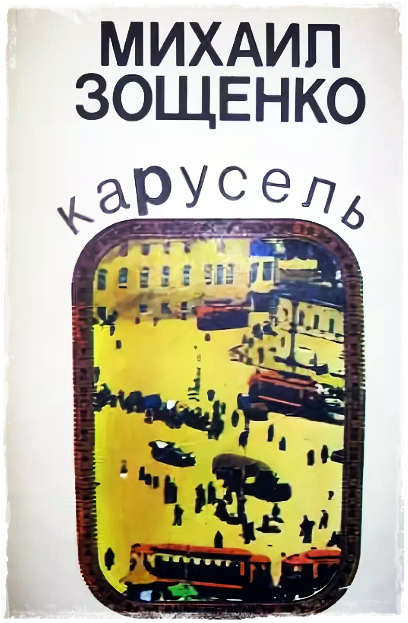
Карусель
Вот, братцы мои, придется нам некоторое время обождать с бесплатностью. Нельзя сейчас.
Скажем, бесплатно все. А мы никакой меры не знаем. Думаем, ежели бесплатно, так и при, ребята, всем скопом.
Как однажды на первомайских праздниках поставили карусель на пощади. Ну, народ повалил, конечно. А тут парень какой-то случился. Из деревни, видимо.
— Чего, — спрашивает парень, — бесплатно крутит?
— Бесплатно!
Сел этот парень на карусель, на деревянную лошадь, и до тех пор крутился, покуда не помертвел весь.
Сняли его с карусели, положили на землю — ничего, отдышался, пришел в себя.
— Чего, — говорит, — крутит еще?
— Крутит…
— Ну, — говорит, — я еще разочек… Бесплатно, все-таки.
Через пять минут снова его сняли с лошади.
Снова положили на землю.
Рвало его, как из ведра.
Так вот, братишки, обождать требуется.
8. Зощенко М. "Галоша"

9. Гоголь Н.В. "Заколдованное место"
ЗАКОЛДОВАННОЕ МЕСТО. Н. В. ГОГОЛЬ
Быль, рассказанная дьячком ***ской церкви
Ей-Богу, уже надоело рассказывать! Да что вы думаете? Право, скучно: рассказывай, да и рассказывай, и отвязаться нельзя! Ну, извольте, я расскажу, только, ей-ей, в последний раз. Да, вот вы говорили насчет того, что человек может совладать, как говорят, с нечистым духом. Оно конечно, то есть, если хорошенько подумать, бывают на свете всякие случаи... Однако ж не говорите этого. Захочет обморочить дьявольская сила, то обморочит; ей-Богу, обморочит! Вот извольте видеть: нас всех у отца было четверо. Я тогда был еще дурень. Всего мне было лет одиннадцать; так нет же, не одиннадцать: я помню как теперь, когда раз побежал было на четвереньках и стал лаять по-собачьи, батько закричал на меня, покачав головою: «Эй, Фома, Фома! тебя женить пора, а ты дуреешь, как молодой лошак!» Дед был еще тогда жив и на ноги — пусть ему легко икнется на том свете — довольно крепок. Бывало, вздумает...
Да что ж эдак рассказывать? Один выгребает из печки целый час уголь для своей трубки, другой зачем-то побежал за комору. Что, в самом деле!.. Добро бы поневоле, а то ведь сами же напросились. Слушать так слушать!
Батько еще в начале весны повез в Крым на продажу табак. Не помню только, два или три воза снарядил он. Табак был тогда в цене. С собою взял он трехгодового брата — приучать заранее чумаковать. Нас осталось: дед, мать, я, да брат, да еще брат.
Дед засеял баштан на самой дороге и перешел жить в курень; взял и нас с собою гонять воробьев и сорок с баштану.
Нам это было нельзя сказать чтобы худо. Бывало, наешься в день столько огурцов, дынь, репы, цибули, гороху, что в животе, ей-Богу, как будто петухи кричат. Ну, оно притом же и прибыльно. Проезжие толкутся по дороге, всякому захочется полакомиться арбузом или дынею. Да из окрестных хуторов, бывало, нанесут на обмен кур, яиц, индеек. Житье было хорошее.
Но деду более всего любо было то, что чумаков каждый день возов пятьдесят проедет. Народ, знаете, бывалый: пойдет рассказывать — только уши развешивай! А деду это все равно что голодному галушки. Иной раз, бывало, случится встреча с старыми знакомыми, — деда всякий уже знал, — можете посудить сами, что бывает, когда соберется старье: тара, тара, тогда-то да тогда-то, такое-то да такое-то было... ну, и разольются! вспомянут Бог знает когдашнее.
Раз, — ну вот, право, как будто теперь случилось, — солнце стало уже садиться; дед ходил по баштану и снимал с кавунов листья, которыми прикрывал их днем, чтоб не попеклись на солнце.
— Смотри, Остап! — говорю я брату, — вон чумаки едут!
— Где чумаки? — сказал дед, положивши значок на большой дыне, чтобы на случай не съели хлопцы.
По дороге тянулось точно возов шесть. Впереди шел чумак уже с сизыми усами.
Не дошедши шагов — как бы вам сказать — на десять, он остановился.
— Здорово, Максим! Вот привел Бог где увидеться!
Дед прищурил глаза:
— А! здорово, здорово! откуда Бог несет? И Болячка здесь? здорово, здорово, брат! Что за дьявол! да тут все: и Крутотрыщенко! и Печерыця и Ковелек! и Стецько! здорово! А, га, га! го, го!.. — И пошли целоваться.
Волов распрягли и пустили пастись на траву. Возы оставили на дороге; а сами сели все в кружок впереди куреня и закурили люльки. Но куда уже тут до люлек? за россказнями да за раздобарами вряд ли и по одной досталось. После полдника стал дед потчевать гостей дынями. Вот каждый, взявши по дыне, обчистил ее чистенько ножиком (калачи все были тертые, мыкали немало, знали уже, как едят в свете; пожалуй, и за панский стол хоть сейчас готовы сесть), обчистивши хорошенько, проткнул каждый пальцем дырочку, выпил из нее кисель, стал резать по кусочкам и класть в рот.
— Что ж вы, хлопцы, — сказал дед, — рты свои разинули? танцуйте, собачьи дети! Где, Остап, твоя сопилка? А ну-ка козачка! Фома, берись в боки! ну! вот так! гей, гоп!
Я был тогда малый подвижной. Старость проклятая! теперь уже не пойду так; вместо всех выкрутасов ноги только спотыкаются. Долго глядел дед на нас, сидя с чумаками. Я замечаю, что у него ноги не постоят на месте: так, как будто их что-нибудь дергает.
— Смотри, Фома, — сказал Остап, — если старый хрен не пойдет танцевать!
Что ж вы думаете? не успел он сказать — не вытерпел старичина! захотелось, знаете, прихвастнуть пред чумаками.
— Вишь, чертовы дети! разве так танцуют? Вот как танцуют! — сказал он, поднявшись на ноги, протянув руки и ударив каблуками.
Ну, нечего сказать, танцевать-то он танцевал так, хоть бы и с гетьманшею. Мы посторонились, и пошел хрен вывертывать ногами по всему гладкому месту, которое было возле грядки с огурцами. Только что дошел, однако ж, до половины и хотел разгуляться и выметнуть ногами на вихорь какую-то свою штуку, — не подымаются ноги, да и только! Что за пропасть! Разогнался снова, дошел до середины — не берет! что хочь делай: не берет, да и не берет! ноги как деревянные стали! «Вишь, дьявольское место! вишь, сатанинское наваждение! впутается же Ирод, враг рода человеческого!»
Ну, как наделать страму перед чумаками? Пустился снова и начал чесать дробно, мелко, любо глядеть; до середины — нет! не вытанцывается, да и полно!
— А, шельмовский сатана! чтоб ты подавился гнилою дынею! чтоб еще маленьким издохнул, собачий сын! вот на старость наделал стыда какого!..
И в самом деле сзади кто-то засмеялся. Оглянулся: ни баштану, ни чумаков, ничего; назади, впереди, по сторонам — гладкое поле.
— Э! ссс... вот тебе на!
Начал прищуривать глаза — место, кажись, не совсем незнакомое: сбоку лес, из-за леса торчал какой-то шест и виделся прочь далеко в небе.
Что за пропасть! да это голубятня, что у попа в огороде! С другой стороны тоже что-то сереет; вгляделся: гумно волостного писаря. Вот куда затащила нечистая сила! Поколесивши кругом, наткнулся он на дорожку. Месяца не было; белое пятно мелькало вместо него сквозь тучу. «Быть завтра большому ветру!» — подумал дед. Глядь, в стороне от дорожки на могилке вспыхнула свечка.
— Вишь! — стал дед и руками подперся в боки, и глядит: свечка потухла; вдали и немного подалее загорелась другая. — Клад! — закричал дед. — Я ставлю Бог знает что, если не клад! — и уже поплевал было в руки, чтобы копать, да спохватился, что нет при нем ни заступа, ни лопаты. — Эх, жаль! ну, кто знает, может быть, стоит только поднять дерн, а он тут и лежит, голубчик! Нечего делать, назначить, по крайней мере, место, чтобы не позабыть после!
Вот, перетянувши сломленную, видно вихрем, порядочную ветку дерева, навалил он ее на ту могилку, где горела свечка, и пошел по дорожке.
Молодой дубовый лес стал редеть; мелькнул плетень. «Ну, так! не говорил ли я, — подумал дед, — что это попова левада? Вот и плетень его! теперь и версты нет до баштана».
Поздненько, однако ж, пришел он домой и галушек не захотел есть. Разбудивши брата Остапа, спросил только, давно ли уехали чумаки, и завернулся в тулуп. И когда тот начал было спрашивать:
— А куда тебя, дед, черти дели сегодня?
— Не спрашивай, — сказал он, завертываясь еще крепче, — не спрашивай, Остап; не то поседеешь! — И захрапел так, что воробьи, которые забрались было на баштан, поподымались с перепугу на воздух. Но где уж там ему спалось! Нечего сказать, хитрая была бестия, дай Боже ему Царствие Небесное! — умел отделаться всегда. Иной раз такую запоет песню, что губы станешь кусать.
На другой день, чуть только стало смеркаться в поле, дед надел свитку, подпоясался, взял под мышку заступ и лопату, надел на голову шапку, выпил кухоль сировцу, утер губы полою и пошел прямо к попову огороду. Вот минул и плетень, и низенький дубовый лес. Промеж деревьев вьется дорожка и выходит в поле. Кажись, та самая. Вышел и на поле — место точь-в-точь вчерашнее: вон и голубятня торчит; но гумна не видно. «Нет, это не то место. То, стало быть, подалее; нужно, видно, поворотить к гумну!» Поворотил назад, стал идти другою дорогою — гумно видно, а голубятни нет! Опять поворотил поближе к голубятне — гумно спряталось. В поле, как нарочно, стал накрапывать дождик. Побежал снова к гумну — голубятня пропала; к голубятне — гумно пропало.
— А чтоб ты, проклятый сатана, не дождал детей своих видеть!
А дождь пустился, как будто из ведра.
Вот, скинувши новые сапоги и обернувши в хустку, чтобы не покоробились от дождя, задал он такого бегуна, как будто панский иноходец.
Влез в курень, промокши насквозь, накрылся тулупом и принялся ворчать что-то сквозь зубы и приголубливать черта такими словами, каких я еще отроду не слыхивал. Признаюсь, я бы, верно, покраснел, если бы случилось это среди дня.
На другой день проснулся, смотрю: уже дед ходит по баштану как ни в чем не бывало и прикрывает лопухом арбузы. За обедом опять старичина разговорился, стал пугать меньшего брата, что он обменяет его на кур вместо арбуза; а пообедавши, сделал сам из дерева пищик и начал на нем играть; и дал нам забавляться дыню, свернувшуюся в три погибели, словно змею, которую называл он турецкою. Теперь таких дынь я нигде и не видывал. Правда, семена ему что-то издалека достались.
Ввечеру, уже повечерявши, дед пошел с заступом прокопать новую грядку для поздних тыкв. Стал проходить мимо того заколдованного места, не вытерпел, чтобы не проворчать сквозь зубы: «Проклятое место!» — взошел на середину, где не вытанцывалось позавчера, и ударил в сердцах заступом. Глядь, вокруг него опять то же самое поле: с одной стороны торчит голубятня, а с другой гумно. «Ну, хорошо, что догадался взять с собою заступ. Вон и дорожка! вон и могилка стоит! вон и ветка навалена! вон-вон горит и свечка! Как бы только не ошибиться».
Потихоньку побежал он, поднявши заступ вверх, как будто бы хотел им попотчевать кабана, затесавшегося на баштан, и остановился перед могилкою. Свечка погасла; на могиле лежал камень, заросший травою. «Этот камень нужно поднять!» — подумал дед и начал обкапывать его со всех сторон. Велик проклятый камень! вот, однако ж, упершись крепко ногами в землю, пихнул он его с могилы.
«Гу!» — пошло по долине. «Туда тебе и дорога! Теперь живее пойдет дело».
Тут дед остановился, достал рожок, насыпал на кулак табаку и готовился было поднести к носу, как вдруг над головою его «чихи!» — чихнуло что-то так, что покачнулись деревья и деду забрызгало все лицо.
— Отворотился хоть бы в сторону, когда хочешь чихнуть! — проговорил дед, протирая глаза. Осмотрелся — никого нет. — Нет, не любит, видно, черт табаку! — продолжал он, кладя рожок в пазуху и принимаясь за заступ. — Дурень же он, а такого табаку ни деду, ни отцу его не доводилось нюхать!
Стал копать — земля мягкая, заступ так и уходит.
Вот что-то звукнуло. Выкидавши землю, увидел он котел.
— А, голубчик, вот где ты! — вскрикнул дед, подсовывая под него заступ.
— А, голубчик, вот где ты! — запищал птичий нос, клюнувши котел.
Посторонился дед и выпустил заступ.
— А, голубчик, вот где ты! — заблеяла баранья голова с верхушки дерева.
— А, голубчик, вот где ты! — заревел медведь, высунувши из-за дерева свое рыло.
Дрожь проняла деда.
— Да тут страшно слово сказать! — проворчал он про себя.
— Тут страшно слово сказать! — пискнул птичий нос.
— Страшно слово сказать! — заблеяла баранья голова.
— Слово сказать! — ревнул медведь.
— Гм... — сказал дед и сам перепугался.
— Гм! — пропищал нос.
— Гм! — проблеял баран.
— Гум! — заревел медведь.
Со страхом оборотился он: Боже ты мой, какая ночь! ни звезд, ни месяца; вокруг провалы; под ногами круча без дна; над головою свесилась гора и вот-вот, кажись, так и хочет оборваться на него! И чудится деду, что из-за нее мигает какая-то харя: у! у! нос — как мех в кузнице; ноздри — хоть по ведру воды влей в каждую! губы, ей-Богу, как две колоды! красные очи выкатились наверх, и еще и язык высунула и дразнит!
— Черт с тобою! — сказал дед, бросив котел. — На тебе и клад твой! Экая мерзостная рожа! — и уже ударился было бежать, да огляделся и стал, увидевши, что все было по-прежнему. — Это только пугает нечистая сила!
Принялся снова за котел — нет, тяжел! Что делать? Тут же не оставить! Вот, собравши все силы, ухватился он за него руками.
— Ну, разом, разом! еще, еще! — и вытащил! — Ух! Теперь понюхать табаку!
Достал рожок; прежде, однако ж, чем стал насыпать, осмотрелся хорошенько, нет ли кого: кажись, что нет; но вот чудится ему, что пень дерева пыхтит и дуется, показываются уши, наливаются красные глаза; ноздри раздулись, нос поморщился и вот так и собирается чихнуть. «Нет, не понюхаю табаку, — подумал дед, спрятавши рожок, — опять заплюет сатана очи». Схватил скорее котел и давай бежать, сколько доставало духу; только слышит, что сзади что-то так и чешет прутьями по ногам... «Ай! ай, ай!» — покрикивал только дед, ударив во всю мочь; и как добежал до попова огорода, тогда только перевел немного дух.
«Куда это зашел дед?» — думали мы, дожидаясь часа три. Уже с хутора давно пришла мать и принесла горшок горячих галушек. Нет да и нет деда! Стали опять вечерять сами. После вечери вымыла мать горшок и искала глазами, куда бы вылить помои, потому что вокруг все были гряды; как видит, идет прямо к ней навстречу кухва. На небе было-таки темненько. Верно, кто-нибудь из хлопцев, шаля, спрятался сзади и подталкивает ее.
— Вот кстати, сюда вылить помои! — сказала и вылила горячие помои.
— Ай! — закричало басом.
Глядь — дед. Ну, кто его знает! Ей-Богу, думали, что бочка лезет. Признаюсь, хоть оно и грешно немного, а, право, смешно показалось, когда седая голова деда вся была окутана в помои и обвешана корками с арбузов и дыней.
— Вишь, чертова баба! — сказал дед, утирая голову полою, — как опарила! как будто свинью перед Рождеством! Ну, хлопцы, будет вам теперь на бублики! Будете, собачьи дети, ходить в золотых жупанах! Посмотрите-ка, посмотрите сюда, что я вам принес! — сказал дед и открыл котел.
Что ж бы, вы думали, такое там было? ну, по малой мере, подумавши, хорошенько, а? золото? Вот то-то, что не золото: сор, дрязг... стыдно сказать, что такое. Плюнул дед, кинул котел и руки после того вымыл.
И с той поры заклял дед и нас верить когда-либо черту.
— И не думайте! — говорил он часто нам, — все, что ни скажет враг Господа Христа, все солжет, собачий сын! У него правды и на копейку нет!
И, бывало, чуть только услышит старик, что в ином месте неспокойно:
— А ну-те, ребята, давайте крестить! — закричит к нам. — Так его! так его! хорошенько! — и начнет класть кресты. А то проклятое место, где не вытанцывалось, загородил плетнем, велел кидать все, что ни есть непотребного, весь бурьян и сор, который выгребал из баштана.
Так вот как морочит нечистая сила человека! Я знаю хорошо эту землю: после того нанимали ее у батька под баштан соседние козаки. Земля славная! и Урожай всегда бывал на диво; но на заколдованном месте никогда не было ничего доброго. Засеют как следует, а взойдет такое, что и разобрать нельзя: арбуз не арбуз, тыква не тыква, огурец не огурец... черт знает что такое!
10. Куприн А.И. "Белый пудель"

Белый пудель
I
Узкими горными тропинками, от одного дачного поселка до другого, пробиралась вдоль южного берега Крыма маленькая бродячая труппа. Впереди обыкновенно бежал, свесив набок длинный розовый язык, белый пудель Арто, остриженный наподобие льва. У перекрестков он останавливался и, махая хвостом, вопросительно оглядывался назад. По каким-то ему одному известным признакам он всегда безошибочно узнавал дорогу и, весело болтая мохнатыми ушами, кидался галопом вперед. За собакой шел двенадцатилетний мальчик Сергей, который держал под левым локтем свернутый ковер для акробатических упражнений, а в правой нес тесную и грязную клетку со щеглом, обученным вытаскивать из ящика разноцветные бумажки с предсказаниями на будущую жизнь. Наконец сзади плелся старший член труппы – дедушка Мартын Лодыжкин, с шарманкой на скрюченной спине.
Шарманка была старинная, страдавшая хрипотой, кашлем и перенесшая на своем веку не один десяток починок. Играла она две вещи: унылый немецкий вальс Лаунера и галоп из «Путешествий в Китай» – обе бывшие в моде лет тридцать – сорок тому назад, по теперь всеми позабытые. Кроме того, были в шарманке две предательские трубы. У одной – дискантовой – пропал голос; она совсем не играла, и поэтому, когда до нее доходила очередь, то вся музыка начинала как бы заикаться, прихрамывать и спотыкаться. У другой трубы, издававшей низкий звук, не сразу закрывался клапан: раз загудев, она тянула одну и ту же басовую ноту, заглушая и сбивая все другие звуки, до тех пор пока ей вдруг не приходило желание замолчать. Дедушка сам сознавал эти недостатки своей машины и иногда замечал шутливо, но с оттенком тайной грусти:
– Что́ поделаешь?.. Древний орга́н… простудный… Заиграешь – дачники обижаются: «Фу, говорят, гадость какая!» А ведь пьесы были очень хорошие, модные, но только нынешние господа нашей музыки совсем не обожают. Им сейчас «Гейшу» подавай, «Под двуглавым орлом», из «Продавца птиц» – вальс. Опять-таки трубы эти… Носил я орга́н к мастеру – и чинить не берется. «Надо, говорит, новые трубы ставить, а лучше всего, говорит, продай ты свою кислую дребедень в музей… вроде как какой-нибудь памятник…» Ну, да уж ладно! Кормила она нас с тобой, Сергей, до сих пор, бог даст и еще покормит.
Дедушка Мартын Лодыжкин любил свою шарманку так, как можно любить только живое, близкое, пожалуй, даже родственное существо. Свыкнувшись с ней за многие годы тяжелой бродячей жизни, он стал наконец видеть в ней что-то одухотворенное, почти сознательное. Случалось иногда, что ночью, во время ночлега, где-нибудь на грязном постоялом дворе, шарманка, стоявшая на полу, рядом с дедушкиным изголовьем, вдруг издавала слабый звук, печальный, одинокий и дрожащий: точно старческий вздох. Тогда Лодыжкин тихо гладил ее по резному боку и шептал ласково:
– Что́, брат? Жалуешься?.. А ты терпи…
Столько же, сколько шарманку, может быть, даже немного больше, он любил своих младших спутников в вечных скитаниях: пуделя Арто и маленького Сергея. Мальчика он взял пять лет тому назад «напрокат» у забулдыги, вдового сапожника, обязавшись за это уплачивать по два рубля в месяц. Но сапожник вскоре умер, и Сергей остался навеки связанным с дедушкой и душою, и мелкими житейскими интересами.
II
Тропинка шла вдоль высокого прибрежного обрыва, извиваясь в тени столетних маслин. Море иногда мелькало между деревьями, и тогда казалось, что, уходя вдаль, оно в то же время подымается вверх спокойной могучей стеной, и цвет его был еще синее, еще гуще в узорчатых прорезах, среди серебристо-зеленой листвы. В траве, в кустах кизиля и дикого шиповника, в виноградниках и на деревьях – повсюду заливались цикады; воздух дрожал от их звенящего, однообразного, неумолчного крика. День выдался знойный, безветренный, и накалившаяся земля жгла подошвы ног.
Сергей, шедший, по обыкновению, впереди дедушки, остановился и ждал, пока старик не поравнялся с ним.
– Ты что́, Сережа? – спросил шарманщик.
– Жара, дедушка Лодыжкин… нет никакого терпения! Искупаться бы…
Старик на ходу привычным движением плеча поправил на спине шарманку и вытер рукавом вспотевшее лицо.
– На что бы лучше! – вздохнул он, жадно поглядывая вниз, на прохладную синеву моря. – Только ведь после купанья еще больше разморит. Мне один знакомый фельдшер говорил: соль эта самая на человека действует… значит, мол, расслабляет… Соль-то морская…
– Врал, может быть? – с сомнением заметил Сергей.
– Ну, вот, врал! Зачем ему врать? Человек солидный, непьющий… домишко у него в Севастополе. Да потом здесь и спуститься к морю негде. Подожди, дойдем ужотко до Мисхора, там и пополощем телеса свои грешные. Перед обедом оно лестно, искупаться-то… а потом, значит, поспать трошки… и отличное дело…
Арто, услышавший сзади себя разговор, повернулся и подбежал к людям. Его голубые добрые глаза щурились от жары и глядели умильно, а высунутый длинный язык вздрагивал от частого дыхания.
– Что́, брат песик? Тепло? – спросил дедушка.
Собака напряженно зевнула, завив язык трубочкой, затряслась всем телом и тонко взвизгнула.
– Н-да, братец ты мой, ничего не поделаешь… Сказано: в поте лица твоего, – продолжал наставительно Лодыжкин. – Положим, у тебя, примерно сказать, не лицо, а морда, а все-таки… Ну, пошел, пошел вперед, нечего под ногами вертеться… А я, Сережа, признаться сказать, люблю, когда эта самая теплынь. Орга́н вот только мешает, а то, кабы не работа, лег бы где-нибудь на траве, в тени, пузом, значит, вверх, и полеживай себе. Для наших старых костей это самое солнце – первая вещь.
Тропинка спустилась вниз, соединившись с широкой, твердой, как камень, ослепительно-белой дорогой. Здесь начинался старинный графский парк, в густой зелени которого были разбросаны красивые дачи, цветники, оранжереи и фонтаны. Лодыжкин хорошо знал эти места; каждый год обходил он их одно за другим во время виноградного сезона, когда весь Крым наполняется нарядной, богатой и веселой публикой. Яркая роскошь южной природы не трогала старика, но зато многое восхищало Сергея, бывшего здесь впервые. Магнолии, с их твердыми и блестящими, точно лакированными листьями и белыми, с большую тарелку величиной, цветами; беседки, сплошь затканные виноградом, свесившим вниз тяжелые гроздья; огромные многовековые платаны с их светлой корой и могучими кронами; табачные плантации, ручьи и водопады, и повсюду – на клумбах, на изгородях, на стенах дач – яркие, великолепные душистые розы, – все это не переставало поражать своей живой цветущей прелестью наивную душу мальчика. Он высказывал свои восторги вслух, ежеминутно теребя старика за рукав.
– Дедушка Лодыжкин, а дедушка, глянь-кось, в фонтане-то – золотые рыбы!.. Ей-богу, дедушка, золотые, умереть мне на месте! – кричал мальчик, прижимаясь лицом к решетке, огораживающей сад с большим бассейном посредине. – Дедушка, а персики! Бона сколько! На одном дереве!
– Иди-иди, дурашка, чего рот разинул! – подталкивал его шутливо старик. – Погоди, вот дойдем мы до города Новороссийского и, значит, опять подадимся на юг. Там действительно места, – есть на что посмотреть. Сейчас, примерно сказать, пойдут тебе Сочи, Адлер, Туапсе, а там, братец ты мой, Сухум, Батум… Глаза раскосишь глядемши… Скажем, примерно – пальма. Удивление! Ствол у нее мохнатый, на манер войлока, а каждый лист такой большой, что нам с тобой обоим укрыться впору.
– Ей-богу? – радостно удивился Сергей.
– Постой, сам увидишь. Да мало ли там чего? Апельцын, например, или хоть, скажем, тот же лимон… Видал небось в лавочке?
– Ну?
– Просто так себе и растет в воздухе. Без ничего, прямо на дереве, как у нас, значит, яблоко или груша… И народ там, братец, совсем диковинный: турки, персюки, черкесы разные, всё в халатах и с кинжалами… Отчаянный народишка! А то бывают там, братец, эфиопы. Я их в Батуме много раз видел.
– Эфиопы? Знаю. Это которые с рогами, – уверенно сказал Сергей.
– Рогов, положим, у них нет, это враки. Но черные, как сапог, и даже блестят. Губищи у них красные, толстенные, а глазищи белые, а волосы курчавые, как на черном баране.
– Страшные поди… эфиопы-то эти?
– Как тебе сказать? С непривычки оно точно… опасаешься немного, ну, а потом видишь, что другие люди не боятся, и сам станешь посмелее… Много там, братец мой, всякой всячины. Придем – сам увидишь. Одно только плохо – лихорадка. Потому кругом болота, гниль, а притом же жарища. Тамошним-то жителям ничего, не действует на них, а пришлому человеку приходится плохо. Одначе будет нам с тобой, Сергей, языками трепать. Лезь-ка в калитку. На этой даче господа живут очень хорошие… Ты меня спроси: уж я все знаю!
Но день выдался для них неудачный. Из одних мест их прогоняли, едва завидев издали, в других, при первых же хриплых и гнусавых звуках шарманки, досадливо и нетерпеливо махали на них с балконов руками, в третьих прислуга заявляла, что «господа еще не приехамши». На двух дачах им, правда, заплатили за представление, но очень мало. Впрочем, дедушка никакой низкой платой не гнушался. Выходя из ограды на дорогу, он с довольным видом побрякивал в кармане медяками и говорил добродушно:
– Две да пять, итого семь копеек… Что ж, брат Сереженька, и это деньги. Семь раз по семи, – вот он и полтинник набежал, значит, все мы трое сыты, и ночлег у нас есть, и старичку Лодыжкину, по его слабости, можно рюмочку пропустить, недугов многих ради… Эх, не понимают этого господа! Двугривенный дать ему жалко, а пятачок стыдно… ну и велят идти прочь. А ты лучше дай хоть три копейки… Я ведь не обижаюсь, я ничего… зачем обижаться?
Вообще Лодыжкин был скромного нрава и, даже когда его гнали, не роптал. Но сегодня и его вывела из обычного благодушного спокойствия одна красивая, полная, с виду очень добрая дама, владелица прекрасной дачи, окруженной садом с цветами. Она внимательно слушала музыку, еще внимательнее глядела на акробатические упражнения Сергея и на смешные «штучки» Арто, после этого долго и подробно расспрашивала мальчика о том, сколько ему лет и как его зовут, где он выучился гимнастике, кем ему приходится старик, чем занимались его родители и т.д.; потом приказала подождать и ушла в комнаты.
Она не появлялась минут десять, а то и четверть часа, и чем дольше тянулось время, тем более разрастались у артистов неопределенные, но заманчивые надежды. Дедушка даже шепнул мальчугану, прикрыв из осторожности рот ладонью, как щитком:
– Ну, Сергей, счастье наше, ты только слушай меня: я, брат, все знаю. Может быть, из платья что-нибудь даст или из обуви. Это уж верно!..
Наконец барыня вышла на балкон, швырнула сверху в подставленную шляпу Сергея маленькую белую монетку и тотчас же скрылась. Монета оказалась старым, стертым с обеих сторон и вдобавок дырявым гривенником. Дедушка долго с недоумением рассматривал ее. Он уже вышел на дорогу и отошел далеко от дачи, по все еще держал гривенник на ладони, как будто взвешивая его.
– Н-да-а… Ловко! – произнес он, внезапно остановившись. – Могу сказать… А мы-то, три дурня, старались. Уж лучше бы она хоть пуговицу дала, что ли. Ту по крайности куда-нибудь пришить можно. А что я с этой дрянью буду делать? Барыня небось думает: все равно старик кому-нибудь ее ночью спустит, потихоньку, значит. Нет-с, очень ошибаетесь, сударыня. Старик Лодыжкин такой гадостью заниматься не станет. Да-с! Вот вам ваш драгоценный гривенник! Вот!
И он с негодованием и с гордостью бросил монету, которая, слабо звякнув, зарылась в белую дорожную пыль.
Таким образом старик с мальчиком и с собакой обошли весь дачный поселок и уж собирались сойти к морю. По левую сторону оставалась еще одна, последняя, дача. Ее не было видно из-за высокой белой стены, над которой, с той стороны, возвышался плотный строй тонких запыленных кипарисов, похожих на длинные черно-серые веретена. Только сквозь широкие чугунные ворота, похожие своей причудливой резьбой на кружево, можно было рассмотреть уголок свежего, точно зеленый яркий шелк, газона, круглые цветочные клумбы и вдали, на заднем плане, крытую сквозную аллею, всю обвитую густым виноградом. Посредине газона стоял садовник, поливавший из длинного рукава розы. Он прикрыл пальцем отверстие трубы, и от этого в фонтане бесчисленных брызг солнце играло всеми цветами радуги.
Дедушка собирался было пройти мимо, но, заглянув в ворота, остановился в недоумении.
– Подожди-ка малость, Сергей, – окликнул он мальчика. – Никак, там люди шевелятся? Вот так история. Сколько лет здесь хожу, – и никогда ни души. А ну-ка, вали, брат Сергей!
– «Дача Дружба», посторонним вход строго воспрещается, – прочитал Сергей надпись, искусно выбитую на одном из столбов, поддерживавших ворота.
– Дружба?.. – переспросил неграмотный дедушка. – Во-во! Это самое настоящее слово – дружба. Весь день у нас заколодило, а уж тут мы с тобой возьмем. Это я носом чую, на манер как охотничий пес. Арто, иси, собачий сын! Вали смело, Сережа. Ты меня всегда спрашивай: уж я все знаю!
III
Дорожки сада были усыпаны ровным крупным гравием, хрустевшим под ногами, а с боков обставлены большими розовыми раковинами. На клумбах, над пестрым ковром из разноцветных трав, возвышались диковинные яркие цветы, от которых сладко благоухал воздух. В водоемах журчала и плескалась прозрачная вода; из красивых ваз, висевших в воздухе между деревьями, спускались гирляндами вниз вьющиеся растения, а перед домом, на мраморных столбах, стояли два блестящие зеркальные шара, в которых странствующая труппа отразилась вверх ногами, в смешном, изогнутом и растянутом виде.
Перед балконом была большая утоптанная площадка. Сергей расстелил на ней свой коврик, а дедушка, установив шарманку на палке, уже приготовился вертеть ручку, как вдруг неожиданное и странное зрелище привлекло их внимание.
На террасу из внутренних комнат выскочил как бомба, издавая пронзительные крики, мальчик лет восьми или десяти. Он был в легком матросском костюмчике, с обнаженными руками и голыми коленками. Белокурые волосы, все в крупных локонах, растрепались у него небрежно по плечам. Следом за мальчиком выбежало еще шесть человек: две женщины в фартуках; старый толстый лакей во фраке, без усов и без бороды, но с длинными седыми бакенбардами; сухопарая, рыжая, красноносая девица в синем клетчатом платье; молодая, болезненного вида, но очень красивая дама в кружевном голубом капоте и, наконец, толстый лысый господин в чесунчевой паре и в золотых очках. Все они были сильно встревожены, махали руками, говорили громко и даже толкали друг друга. Сразу можно было догадаться, что причиной их беспокойства является мальчик в матросском костюме, так внезапно вылетевший на террасу.
Между тем виновник этой суматохи, ни на секунду не прекращая своего визга, с разбегу повалился животом на каменный пол, быстро перекатился на спину и с сильным ожесточением принялся дрыгать руками и ногами во все стороны. Взрослые засуетились вокруг него. Старый лакей во фраке прижимал с умоляющим видом обе руки к накрахмаленной рубашке, тряс своими длинными бакенбардами и говорил жалобно:
– Батюшка барин!.. Николай Аполлонович!.. Не извольте огорчать маменьку-с – встаньте… Будьте столь добренькие – выкушайте-с. Микстурка очень сладенькая, один суроп-с. Извольте подняться…
Женщины в фартуках всплескивали руками и щебетали скоро-скоро подобострастными и испуганными голосами. Красноносая девица кричала с трагическими жестами что-то очень внушительное, но совершенно непонятное, очевидно на иностранном языке. Рассудительным басом уговаривал мальчика господин в золотых очках; при этом он наклонял голову то на один, то на другой бок и степенно разводил руками. А красивая дама томно стонала, прижимая тонкий кружевной платок к глазам:
– Ах, Трилли, ах, боже мой!.. Ангел мой, я умоляю тебя. Послушай же, мама тебя умоляет. Ну, прими же, прими лекарство; увидишь, тебе сразу-сразу станет легче: и животик пройдет и головка. Ну, сделай это для меня, моя радость! Ну, хочешь, Трилли, мама станет перед тобой на колени? Ну вот, смотри, я на коленях перед тобой. Хочешь, я тебе подарю золотой? Два золотых? Пять золотых, Трилли? Хочешь живого ослика? Хочешь живую лошадку?.. Да скажите же ему что-нибудь, доктор!..
– Послушайте, Трилли, будьте же мужчиной, – загудел толстый господин в очках.
– Ай-яй-яй-я-а-а-а! – вопил мальчик, извиваясь по балкону и отчаянно болтая ногами.
Несмотря на свое крайнее волнение, он все-таки норовил попадать каблуками в животы и в ноги возившихся вокруг него людей, которые от этого, впрочем, довольно ловко уклонялись.
Сергей, долго глядевший с любопытством и удивлением на эту сцену, тихонько толкнул старика в бок.
– Дедушка Лодыжкин, что́ же это такое с ним? – спросил он шепотом. – Никак, драть его будут?
– Ну вот, драть… Такой сам всякого посекет. Просто – блажной мальчишка. Больной, должно быть.
– Шамашедчий? – догадался Сергей.
– А я почем знаю. Тише!..
– Ай-яй-а-а! Дряни! Дураки!.. – надрывался все громче и громче мальчик.
– Начинай, Сергей. Я знаю! – распорядился вдруг Лодыжкин и с решительным видом завертел ручку шарманки.
По саду понеслись гнусавые, сиплые, фальшивые звуки старинного галопа. Все на балконе разом встрепенулись, даже мальчик замолчал на несколько секунд.
– Ах, боже мой, они еще больше расстроят бедного Трилли! – воскликнула плачевно дама в голубом капоте. – Ах, да прогоните же их, прогоните скорее! И эта грязная собака с ними. У собак всегда такие ужасные болезни. Что же вы стоите, Иван, точно монумент?
Она с усталым видом и с отвращением замахала платком на артистов, сухопарая красноносая девица сделала страшные глаза, кто-то угрожающе зашипел… Человек во фраке быстро и мягко скатился с балкона и с выражением ужаса на лице, широко растопырив в стороны руки, подбежал к шарманщику.
– Эт-то что за безобразие! – захрипел он сдавленным, испуганным и в то же время начальственно-сердитым шепотом. – Кто позволил? Кто пропустил? Марш! Вон!..
Шарманка, уныло пискнув, замолкла.
– Господин хороший, дозвольте вам объяснить… – начал было деликатно дедушка.
– Никаких! Марш! – закричал с каким-то даже свистом в горле фрачный человек.
Его толстое лицо мигом побагровело, а глаза невероятно широко раскрылись, точно вдруг вылезли наружу, и заходили колесом. Это было настолько страшно, что дедушка невольно отступил на два шага назад.
– Собирайся, Сергей, – сказал он, поспешно вскидывая шарманку на спину. – Идем!
Но не успели они сделать и десяти шагов, как с балкона понеслись новые пронзительные крики:
– Ай-яй-яй! Мне! Хочу-у! А-а-а! Да-ай! Позвать! Мне!
– Но, Трилли!.. Ах, боже мой, Трилли! Ах, да воротите же их, – застонала нервная дама. – Фу, как вы все бестолковы!.. Иван, вы слышите, что́ вам говорят? Сейчас же позовите этих нищих!..
– Послушайте! Вы! Эй, как вас? Шарманщики! Вернитесь! – закричало с балкона несколько голосов.
Толстый лакей с разлетавшимися в обе стороны бакенбардами, подпрыгивая, как большой резиновый мяч, бегом бросился вслед уходящим артистам.
– Нет!.. Музыканты! Слушайте-ка! Назад!.. Назад!.. – кричал он, задыхаясь и махая обеими руками. – Старичок почтенный, – схватил он наконец за рукав дедушку, – заворачивай оглобли! Господа будут ваш пантомин смотреть. Живо!..
– Н-ну, дела! – вздохнул, покрутив головой, дедушка, однако приблизился к балкону, снял шарманку, укрепил ее перед собою на палке и заиграл галоп с того самого места, на котором его только что прервали.
Суета на балконе затихла. Барыня с мальчиком и господин в золотых очках подошли к самым перилам; остальные почтительно оставались на заднем плане. Из глубины сада пришел садовник в фартуке и стал неподалеку от дедушки. Откуда-то вылезший дворник поместился позади садовника. Это был огромный бородатый мужчина с мрачным, узколобым, рябым лицом. Одет он был в новую розовую рубашку, по которой шли косыми рядами крупные черные горошины.
Под хриплые, заикающиеся звуки галопа Сергей разостлал на земле коврик, быстро скинул с ног парусиновые панталоны (они были сшиты из старого мешка и сзади, на самом широком месте, украшались четырехугольным заводским клеймом), сбросил с себя старую куртку и остался в стареньком нитяном трико, которое, несмотря на многочисленные заплаты, ловко охватывало его тонкую, но сильную и гибкую фигуру. У него уже выработались, путем подражания взрослым, приемы заправского акробата. Взбегая на коврик, он на ходу приложил руки к губам, а потом широким театральным движением размахнул их в стороны, как бы посылая публике два стремительных поцелуя.
Дедушка одной рукой непрерывно вертел ручку шарманки, извлекая из нее дребезжащий, кашляющий мотив, а другой бросал мальчику разные предметы, которые тот искусно подхватывал на лету. Репертуар у Сергея был небольшой, но работал он хорошо, «чисто», как говорят акробаты, и с охотой. Он подкидывал вверх пустую пивную бутылку, так что она несколько раз перевертывалась в воздухе, и вдруг, поймав ее горлышком на край тарелки, несколько секунд держал ее в равновесии; жонглировал четырьмя костяными шариками, а также двумя свечками, которые он одновременно ловил в подсвечники; потом играл сразу тремя различными предметами – веером, деревянной сигарой и дождевым зонтом. Все они летали у него по воздуху, не прикасаясь к земле, и вдруг сразу зонт оказался над головой, сигара – во рту, а веер кокетливо обмахивал лицо. В заключение Сергей сам несколько раз перекувырнулся на ковре, сделал «лягушку», показал «американский узел» и походил на руках. Истощив весь запас своих «трюков», он опять бросил в публику два поцелуя и, тяжело дыша, подошел к дедушке, чтобы заменить его у шарманки.
Теперь была очередь Арто. Пес это отлично знал, и уже давно скакал в волнении всеми четырьмя лапами на дедушку, вылезавшего боком из лямки, и лаял на него отрывистым, нервным лаем. Почем знать, может быть, умный пудель хотел этим сказать, что, по его мнению, безрассудно заниматься акробатическими упражнениями, когда Реомюр показывает двадцать два градуса в тени? Но дедушка Лодыжкин с хитрым видом вытащил из-за спины тонкий кизилевый хлыстик. «Так я и знал!» – с досадой пролаял в последний раз Арто и лениво, непокорно поднялся на задние ноги, не сводя моргающих глаз с хозяина.
– Служить, Арто! Так, так, так… – проговорил старик, держа над головой пуделя хлыст. – Перевернись. Так. Перевернись… Еще, еще… Танцуй, собачка, танцуй!.. Садись! Что́-о? Не хочешь? Садись, тебе говорят. А-а… то-то! Смотри! Теперь поздоровайся с почтеннейшей публикой! Ну! Арто! – грозно возвысил голос Лодыжкин.
«Гав!» – брехнул с отвращением пудель. Потом поглядел, жалобно моргая глазами, на хозяина и добавил еще два раза: «Гав, гав!»
«Нет, не понимает меня мой старик!» – слышалось в этом недовольном лае.
– Вот это – другое дело. Вежливость прежде всего. Ну, а теперь немножко попрыгаем, – продолжал старик, протягивая невысоко над землею хлыст. – Алле! Нечего, брат, язык-то высовывать. Алле!.. Гоп! Прекрасно! А ну-ка еще, нох ейн маль… Алле!.. Гоп! Алле! Гоп! Чудесно, собачка. Придем домой, я тебе морковки дам. А, ты морковку не кушаешь? Я и забыл совсем. Тогда возьми мою чилиндру и попроси у господ. Может быть, они тебе препожалуют что-нибудь повкуснее.
Старик поднял собаку на задние лапы и всунул ей в рот свой древний, засаленный картуз, который он с таким тонким юмором называл «чилиндрой». Держа картуз в зубах и жеманно переступая приседающими ногами, Арто подошел к террасе. В руках у болезненной дамы появился маленький перламутровый кошелек. Все окружающие сочувственно улыбались.
– Что́? Не говорил я тебе? – задорно шепнул дедушка, наклоняясь к Сергею. – Ты меня спроси: уж я, брат, все знаю. Никак не меньше рубля.
В это время с террасы раздался такой отчаянный, резкий, почти нечеловеческий вопль, что растерявшийся Арто выронил изо рта шапку и вприпрыжку, с поджатым хвостом, боязливо оглядываясь назад, бросился к ногам своего хозяина.
– Хочу-у-а-а! – закатывался, топая ногами, кудрявый мальчик. – Мне! Хочу! Собаку-у-у! Трилли хочет соба-а-аку-у…
– Ах, боже мой! Ах! Николай Аполлоныч!.. Батюшка барин!.. Успокойся, Трилли, умоляю тебя! – опять засуетились люди на балконе.
– Собаку! Подай собаку! Хочу! Дряни, черти, дураки! – выходил из себя мальчик.
– Но, ангел мой, не расстраивай себя! – залепетала над ним дама в голубом капоте. – Ты хочешь погладить собачку? Ну, хорошо, хорошо, моя радость, сейчас. Доктор, как вы полагаете, можно Трилли погладить эту собаку?
– Вообще говоря, я не советовал бы, – развел тот руками, – но если надежная дезинфекция, например, борной кислотой или слабым раствором карболки, то-о… вообще…
– Соба-а-аку!
– Сейчас, моя прелесть, сейчас. Итак, доктор, мы прикажем вымыть ее борной кислотой и тогда… Но, Трилли, не волнуйся же так! Старик, подведите, пожалуйста, вашу собаку сюда. Не бойтесь, вам заплатят. Слушайте, она у вас не больная? Я хочу спросить, она не бешеная? Или, может быть, у нее эхинококки?
– Не хочу погладить, не хочу! – ревел Трилли, пуская ртом и носом пузыри. – Хочу совсем! Дураки, черти! Совсем мне! Хочу сам играть… Навсегда!
– Послушайте, старик, подойдите сюда, – силилась перекричать его барыня. – Ах, Трилли, ты убьешь маму своим криком. И зачем только пустили этих музыкантов! Да подойдите же ближе, еще ближе… еще, вам говорят!.. Вот так… Ах, не огорчайся же, Трилли, мама сделает все, что хочешь. Умоляю тебя. Мисс, да успокойте же наконец ребенка… Доктор, прошу вас… Сколько же ты хочешь, старик?
Дедушка снял картуз. Лицо его приняло учтивое, сиротское выражение.
– Сколько вашей милости будет угодно, барыня, ваше высокопревосходительство… Мы люди маленькие, нам всякое даяние – благо… Чай, сами старичка не обидите…
– Ах, как вы бестолковы! Трилли, у тебя заболит горлышко. Ведь поймите, что собака ваша , а не моя. Ну, сколько? Десять? Пятнадцать? Двадцать?
– А-а-а! Хочу-у! Дайте собаку, дайте собаку, – взвизгивал мальчик, толкая лакея в круглый живот ногой.
– То есть… простите, ваше сиятельство, – замялся Лодыжкин. – Я – человек старый, глупый… Сразу-то мне не понять… к тому же и глуховат малость… то есть как это вы изволите говорить?.. За собаку?..
– Ах, мой бог!.. Вы, кажется, нарочно притворяетесь идиотом? – вскипела дама. – Няня, дайте поскорее Трилли воды! Я вас спрашиваю русским языком, за сколько вы хотите продать вашу собаку? Понимаете, вашу собаку, собаку…
– Собаку! Соба-аку! – залился громче прежнего мальчик.
Лодыжкин обиделся и надел на голову картуз.
– Собаками, барыня, не торгую-с, – сказал он холодно и с достоинством. – А этот лес, сударыня, можно сказать, нас двоих, – он показал большим пальцем через плечо на Сергея, – нас двоих кормит, поит и одевает. И никак этого невозможно, что, например, продать.
Трилли между тем кричал с пронзительностью паровозного свистка. Ему подали стакан воды, но он яростно выплеснул его в лицо гувернантке.
– Да послушайте же, безумный старик!.. Нет вещи, которая бы не продавалась, – настаивала дама, стискивая свои виски ладонями. – Мисс, вытрите поскорей лицо и дайте мне мой мигренин. Может быть, ваша собака стоит сто рублей? Ну, двести? Триста? Да отвечайте же, истукан! Доктор, скажите ему что-нибудь, ради бога!
– Собирайся, Сергей, – угрюмо проворчал Лодыжкин. – Исту-ка-н… Арто, иди сюда!..
– Э-э, постой-ка, любезный, – начальственным басом протянул толстый господин в золотых очках. – Ты бы лучше не ломался, мои милый, вот что тебе скажу. Собаке твоей десять рублей красная цена, да еще вместе с тобой на придачу… Ты подумай, осел, сколько тебе дают!
– Покорнейше вас благодарю, барин, а только… – Лодыжкин, кряхтя, вскинул шарманку за плечи. – Только никак это дело не выходит, чтобы, значит, продавать. Уж вы лучше где-нибудь другого кобелька поищите… Счастливо оставаться… Сергей, иди вперед!
– А паспорт у тебя есть? – вдруг грозно взревел доктор. – Я вас знаю, канальи!
– Дворник! Семен! Гоните их! – закричала с искаженным от гнева лицом барыня.
Мрачный дворник в розовой рубахе со зловещим видом приблизился к артистам. На террасе поднялся страшный, разноголосый гам: ревел благим матом Трилли, стонала его мать, скороговоркой причитали нянька с поднянькой, густым басом, точно рассерженный шмель, гудел доктор. Но дедушка и Сергей уж не имели времени посмотреть, чем все это кончится. Предшествуемые изрядно струсившим пуделем, они почти бегом спешили к воротам. А следом за ними шел дворник, подталкивая сзади, в шарманку, и говорил угрожающим голосом:
– Шляетесь здесь, лабарданцы! Благодари еще бога, что по шее, старый хрен, не заработал. А в другой раз придешь, так и знай, стесняться с тобой не стану, намну загривок и стащу к господину вряднику. Шантрапа!
Долгое время старик и мальчик шли молча, но вдруг, точно по уговору, взглянули друг на друга и рассмеялись: сначала захохотал Сергей, а потом, глядя на него, но с некоторым смущением, улыбнулся и Лодыжкин.
– Что́, дедушка Лодыжкин? Ты все знаешь? – поддразнил его лукаво Сергей.
– Да-а, брат. Обмишулились мы с тобой, – покачал головой старый шарманщик. – Язвительный, однако, мальчугашка… Как его, такого, вырастили, шут его возьми? Скажите на милость: двадцать пять человек вокруг него танцы танцуют. Ну уж, будь в моей власти, я бы ему прописа-ал ижу. Подавай, говорит, собаку? Этак что́ же? Он и луну с неба захочет, так подавай ему и луну? Поди сюда, Арто, поди, моя собаченька. Ну, и денек сегодня задался. Удивительно!
– На что́ лучше! – продолжал ехидничать Сергей. – Одна барыня платье подарила, другая целковый дала. Все ты, дедушка Лодыжкин, наперед знаешь.
– А ты помалкивай, огарок, – добродушно огрызнулся старик. – Как от дворника-то улепетывал, помнишь? Я думал, и не догнать мне тебя. Серьезный мужчина – этот дворник.
Выйдя из парка, бродячая труппа спустилась крутой, сыпучей тропинкой к морю. Здесь горы, отступив немного назад, дали место неширокой плоской полосе, покрытой ровными, обточенными прибоем камнями, о которые теперь с тихим шелестом ласково плескалось море. Саженях в двухстах от берега кувыркались в воде дельфины, показывая из нее на мгновение свои жирные, круглые спины. Вдали на горизонте, там, где голубой атлас моря окаймлялся темно-синей бархатной лентой, неподвижно стояли стройные, чуть-чуть розовые на солнце, паруса рыбачьих лодок.
– Тут и выкупаемся, дедушка Лодыжкин, – сказал решительно Сергей. На ходу он уже успел, прыгая то на одной, то на другой ноге, стащить с себя панталоны. – Давай я тебе пособлю орга́н снять.
Он быстро разделся, звонко хлопнул себя ладонями по голому, шоколадному от загара телу и бросился в воду, подымая вокруг себя бугры кипящей пены.
Дедушка раздевался не торопясь. Прикрыв глаза ладонью от солнца и щурясь, он с любовной усмешкой глядел на Сергея.
«Ничего себе растет паренек, – думал Лодыжкин, – даром что костлявый – вон все ребра видать, а все-таки будет парень крепкий».
– Эй, Сережка! Ты больно далече-то не плавай. Морская свинья утащит.
– А я ее за хвост! – крикнул издали Сергей.
Дедушка долго постоял на солнышке, щупая у себя под мышками. В воду он сошел очень осторожно и, прежде чем окунуться, старательно мочил себе красное лысое темя и впалые бока. Тело у пего было желтое, дряблое и бессильное, ноги – поразительно тонкие, а спина с выдавшимися острыми лопатками была сгорблена от долголетнего таскания шарманки.
– Дедушка Лодыжкин, гляди! – крикнул Сергей.
Он перекувырнулся в воде, закинув себе ноги через голову. Дедушка, уже влезший в воду по пояс и приседавший в ней с блаженным кряхтением, крикнул тревожно:
– Ну, а ты не балуйся, поросенок. Смотри! Я т-тебя!
Арто неистово лаял и скакал по берегу. Его беспокоило, что мальчик заплыл так далеко. «К чему показывать свою храбрость? – волновался пудель. – Есть земля – и ходи по земле. Гораздо спокойнее».
Он и сам залез было в воду по брюхо и два-три раза лакнул ее языком. Но соленая вода ему не понравилась, а легкие волны, шуршавшие о прибрежный гравий, пугали его. Он выскочил на берег и опять принялся лаять на Сергея. «К чему эти дурацкие фокусы? Сидел бы у берега, рядом со стариком. Ах, сколько беспокойства с этим мальчишкой!»
– Эй, Сережа, вылезай, что ли, в самом деле, будет тебе! – позвал старик.
– Сейчас, дедушка Лодыжкин, пароходом плыву. У-у-у-ух!
Он наконец подплыл к берегу, но прежде чем одеться, схватил на руки Арто и, вернувшись с ним в море, бросил его далеко в воду. Собака тотчас же поплыла назад, выставив наружу только одну морду со всплывшими наверх ушами, громко и обиженно фыркая. Выскочив на сушу, она затряслась всем телом, и тучи брызг полетели на старика и на Сергея.
– Постой-ка, Сережа, никак, это к нам? – сказал Лодыжкин, пристально глядя вверх, на гору.
По тропинке быстро спускался вниз, неразборчиво крича и махая руками, тот самый мрачный дворник в розовой рубахе с черными горошинами, который четверть часа назад гнал странствующую труппу с дачи.
– Что ему надо? – спросил с недоумением дедушка.
IV
Дворник продолжал кричать, сбегая вниз неловкой рысью, причем рукава его рубахи трепались по ветру, а пазуха надувалась, как парус.
– О-го-го!.. Подождите трошки!..
– А чтоб тебя намочило да не высушило, – сердито проворчал Лодыжкин. – Это он опять насчет Артошки.
– Давай, дедушка, накладем ему! – храбро предложил Сергей.
– А ну тебя, отвяжись… И что́ это за люди, прости господи!..
– Вы вот что… – начал запыхавшийся дворник еще издали. – Продавайте, что ли, пса-то? Ну, никакого сладу с панычом. Ревет, как теля. «Подай да подай собаку…» Барыня послала, купи, говорит, чего бы ни стоило.
– Довольно даже глупо это со стороны твоей барыни! – рассердился вдруг Лодыжкин, который здесь, на берегу, чувствовал себя гораздо увереннее, чем на чужой даче. – И опять, какая она мне такая барыня? Тебе, может быть, барыня, а мне двоюродное наплевать. И пожалуйста… я тебя прошу… уйди ты от нас, Христа ради… и того… и не приставай.
Но дворник не унимался. Он сел на камни, рядом со стариком, и говорил, неуклюже тыча перед собой пальцами:
– Да пойми же ты, дурак-человек…
– От дурака и слышу, – спокойно отрезал дедушка.
– Да постой… не к тому я это… Вот, право, репей какой… Ты подумай: ну, что тебе собака? Подобрал другого щенка, выучил стоять дыбки, вот тебе и снова пес. Ну? Неправду, что ли, я говорю? А?
Дедушка внимательно завязывал ремень вокруг штанов. На настойчивые вопросы дворника он ответил с деланным равнодушием:
– Бреши дальше… Я потом сразу тебе отвечу.
– А тут, брат ты мой, сразу – цифра! – горячился дворник. – Двести, а не то триста целковых враз! Ну, обыкновенно, мне кое-что за труды… Ты подумай только: три сотенных! Ведь это сразу можно бакалейную открыть…
Говоря таким образом, дворник вытащил из кармана кусок колбасы и швырнул его пуделю. Арто поймал его на лету, проглотил в один прием и искательно завилял хвостом.
– Кончил? – коротко спросил Лодыжкин.
– Да тут долго и кончать нечего. Давай пса – и по рукам.
– Та-ак-с, – насмешливо протянул дедушка. – Продать, значит, собачку?
– Обыкновенно – продать. Чего вам еще? Главное, папыч у нас такой скаженный. Чего захотелось, так весь дом перебулгачит. Подавай – и все тут. Это еще без отца, а при отце… святители вы наши!.. все вверх ногами ходят. Барин у нас инженер, может быть, слышали, господин Обольянинов? По всей России железные дороги строят. Мельонер! А мальчишка-то у нас один. И озорует. Хочу поню живую – на тебе поню. Хочу лодку – на тебе всамделишную лодку. Как есть ни в чем, ни в чем отказу…
– А луну?
– То есть в каких это смыслах?
– Говорю, луну он ни разу с неба не захотел?
– Ну вот… тоже скажешь – луну! – сконфузился дворник. – Так как же, мил человек, лады у нас, что ли?
Дедушка, который успел уже в это время напялить на себя коричневый, позеленевший на швах пиджак, гордо выпрямился, насколько ему позволяла вечно согнутая спина.
– Я тебе одно скажу, парень, – начал он не без торжественности. – Примерно, ежели бы у тебя был брат или, скажем, друг, который, значит, с самого сыздетства. Постой, друже, ты собаке колбасу даром не стравляй… сам лучше скушай… этим, брат, ее не подкупишь. Говорю, ежели бы у тебя был самый что ни на есть верный друг… который сыздетства… То за сколько бы ты его примерно продал?
– Приравнял тоже!..
– Вот те и приравнял. Ты так и скажи своему барину, который железную дорогу строит, – возвысил голос дедушка. – Так и скажи: не все, мол, продается, что покупается. Да! Ты собаку-то лучше не гладь, это ни к чему. Арто, иди сюда, собачий сын, я т-тебе! Сергей, собирайся.
– Дурак ты старый, – не вытерпел наконец дворник.
– Дурак, да отроду так, а ты хам, Иуда, продажная душа, – выругался Лодыжкин. – Увидишь свою генеральшу, кланяйся ей, скажи: от наших, мол, с любовию вашим низкий поклон. Свертывай ковер, Сергей! Э-эх, спина моя, спинушка! Пойдем.
– Значит, та-ак!.. – многозначительно протянул дворник.
– С тем и возьмите! – задорно ответил старик.
Артисты поплелись вдоль морского берега, опять вверх, по той же дороге. Оглянувшись случайно назад, Сергей увидел, что дворник следит за ними. Вид у него был задумчивый и угрюмый. Он сосредоточенно чесал всей пятерней под съехавшей на глаза шапкой свой лохматый рыжий затылок.
V
У дедушки Лодыжкина был давным-давно примечен одни уголок между Мисхором и Алупкой, книзу от нижней дороги, где отлично можно было позавтракать. Туда он и повел своих спутников. Неподалеку от моста, перекинутого через бурливый и грязный горный поток, выбегала из-под земли, в тени кривых дубов и густого орешника, говорливая, холодная струйка воды. Она проделала в почве круглый неглубокий водоем, из которого сбегала в ручей тонкой змейкой, блестевшей в траве, как живое серебро. Около этого родника по утрам и по вечерам всегда можно было застать набожных турок, пивших воду и творивших свои священные омовения.
– Грехи наши тяжкие, а запасы скудные, – сказал дедушка, садясь в прохладе под орешником. – Ну-ка, Сережа, господи благослови!
Он вынул из холщового мешка хлеб, десяток красных томатов, кусок бессарабского сыра «брынзы» и бутылку с прованским маслом. Соль была у него завязана в узелок тряпочки сомнительной чистоты. Перед едой старик долго крестился и что-то шептал. Потом он разломил краюху хлеба на три неровные части: одну, самую большую, он протянул Сергею (малый растет – ему надо есть), другую, поменьше, оставил для пуделя, самую маленькую взял себе.
– Во имя отца и сына. Очи всех на тя, господи, уповают, – шептал он, суетливо распределяя порции и поливая их из бутылки маслом. – Вкушай, Сережа!
Не торопясь, медленно, в молчании, как едят настоящие труженики, принялись трое за свой скромный обед. Слышно было только, как жевали три пары челюстей. Арто ел свою долю в сторонке, растянувшись на животе и положив на хлеб обе передние лапы. Дедушка и Сергей поочередно макали в соль спелые помидоры, из которых тек по их губам и рукам красный, как кровь, сок, и заедали их сыром и хлебом. Насытившись, они напились воды, подставляя под струю источника жестяную кружку. Вода была прозрачная, прекрасная на вкус и такая холодная, что от нее кружка даже запотела снаружи. Дневной жар и длинный путь изморили артистов, которые встали сегодня чуть свет. У дедушки слипались глаза. Сергей зевал и потягивался.
– Что́, братику, разве нам лечь поспать на минуточку? – спросил дедушка. – Дай-ка я в последний раз водицы попью. Ух, хорошо! – крякнул он, отнимая от кружки рот и тяжело переводя дыхание, между тем как светлые капли бежали с его усов и бороды. – Если бы я был царем, все бы эту воду пил… с утра бы до ночи! Арто, иси, сюда! Ну вот, бог напитал, никто не видал, а кто и видел, тот не обидел… Ох-ох-хонюшки-и!
Старик и мальчик легли рядом на траве, подмостив под головы свои старые пиджаки. Над их головами шумела темная листва корявых, раскидистых дубов. Сквозь нее синело чистое голубое небо. Ручей, сбегавший с камня на камень, журчал так однообразно и так вкрадчиво, точно завораживал кого-то своим усыпительным лепетом. Дедушка некоторое время ворочался, кряхтел и говорил что-то, но Сергею казалось, что голос его звучит из какой-то мягкой и сонной дали, а слова были непонятны, как в сказке.
– Перво дело – куплю тебе костюм: розовое трико с золотом… туфли тоже розовые, атласные… В Киеве, в Харькове или, например, скажем, в городе Одессе – там, брат, во какие цирки!.. Фонарей видимо-невидимо… все электричество горит… Народу, может быть, тысяч пять, а то и больше… почему я знаю? Фамилию мы тебе сочиним непременно итальянскую. Что такая за фамилия Естифеев или, скажем, Лодыжкин? Чепуха одна – нет никакого в ней воображения. А мы тебя в афише запустим – Антонио или, например, тоже хорошо – Энрико или Альфонзо…
Дальше мальчик ничего не слыхал. Нежная и сладкая дремота овладела им, сковав и обессилив его тело. Заснул и дедушка, потерявший вдруг нить своих любимых послеобеденных мыслей о блестящем цирковом будущем Сергея. Один раз ему сквозь сон показалось, что Арто на кого-то рычит. На мгновение в его затуманенной голове скользнуло полусознательное и тревожное воспоминание о давешнем дворнике в розовой рубахе, но, разморенный сном, усталостью и жарой, он не смог встать, а только лениво, с закрытыми глазами, окликнул собаку:
– Арто… куда? Я т-тебя, бродяга!
Но мысли его тотчас же спутались и расплылись в тяжелых и бесформенных видениях.
Разбудил дедушку голос Сергея. Мальчик бегал взад и вперед по той стороне ручья, пронзительно свистал и кричал громко, с беспокойством и испугом:
– Арто, иси! Назад! Фью, фью, фью! Арто, назад!
– Ты что, Сергей, вопишь? – недовольно спросил Лодыжкин, с трудом расправляя затекшую руку.
– Собаку мы проспали, вот что! – раздраженным голосом грубо ответил мальчик. – Пропала собачка.
Он резко свистнул и еще раз закричал протяжно:
– Арто-о-о!
– Глупости ты выдумываешь!.. Вернется, – сказал дедушка. Однако он быстро встал на ноги и стал кричать собаку сердитым, сиплым со сна, старческим фальцетом:
– Арто, сюда, собачий сын!
Он торопливо, мелкими, путающимися шажками перебежал через мост и поднялся вверх по шоссе, не переставая звать собаку. Перед ним лежало видное глазу на полверсты, ровное, ярко-белое полотно дороги, но на нем – ни одной фигуры, ни одной тени.
– Арто! Ар-то-шень-ка! – жалобно завыл старик.
Но вдруг он остановился, нагнулся низко к дороге и присел на корточки.
– Да-а, вот оно какое дело-то! – произнес старик упавшим голосом. – Сергей! Сережа, поди-ка сюда.
– Ну, что́ там еще? – грубо отозвался мальчик, подходя к Лодыжкину. – Вчерашний день нашел?
– Сережа… что́ это такое?.. Вот это, что́ это такое? Ты понимаешь? – еле слышно спрашивал старик.
Он глядел на мальчика жалкими, растерянными глазами, а его рука, показывавшая прямо в землю, ходила во все стороны.
На дороге в белой пыли валялся довольно большой недоеденный огрызок колбасы, а рядом с ним во всех направлениях отпечатались следы собачьих лап.
– Свел ведь, подлец, собаку! – испуганно прошептал дедушка, все еще сидя на корточках. – Не кто, как он, – дело ясное… Помнишь, давеча у моря-то он все колбасой прикармливал.
– Дело ясное, – мрачно и со злобой повторил Сергей.
Широко раскрытые глаза дедушки вдруг наполнились крупными слезами и быстро замигали. Он закрыл их руками.
– Что́ же нам теперь делать, Сереженька? А? Делать-то нам что́ теперь? – спрашивал старик, качаясь взад и вперед и беспомощно всхлипывая.
– Что́ делать, что́ делать! – сердито передразнил его Сергей. – Вставай, дедушка Лодыжкин, пойдем!..
– Пойдем, – уныло и покорно повторил старик, подымаясь с земли. – Ну что ж, пойдем, Сереженька!
Вышедший из терпения Сергей закричал на старика, как на маленького:
– Будет тебе, старик, дурака-то валять. Где это видано всамделе, чтобы чужих собак заманивать? Чего ты глазами на меня хлопаешь? Неправду я говорю? Прямо придем и скажем: «Подавай назад собаку!» А нет – к мировому, вот и весь сказ.
– К мировому… да… конечно… Это верно, к мировому… – с бессмысленной, горькой улыбкой повторял Лодыжкин. Но глаза его неловко и конфузливо забегали. – К мировому… да… Только вот что, Сереженька… не выходит это дело… чтобы к мировому…
– Как это не выходит? Закон один для всех. Чего им в зубы смотреть? – нетерпеливо перебил мальчик.
– А ты, Сережа, не того… не сердись на меня. Собаку-то нам с тобой не вернут. – Дедушка таинственно понизил голос. – Насчет пачпорта я опасаюсь. Слыхал, что давеча господин говорил? Спрашивает: «А пачпорт у тебя есть?» Вот она, какая история. А у меня, – дедушка сделал испуганное лицо и зашептал еле слышно, – у меня, Сережа, пачпорт-то чужой.
– Как чужой?
– То-то вот – чужой. Свой я потерял в Таганроге, а может быть, украли его у меня. Года два я потом крутился: прятался, взятки давал, писал прошения… Наконец вижу, нет никакой моей возможности, живу точно заяц – всякого опасаюсь. Покою вовсе не стало. А тут в Одессе, в ночлежке, подвернулся один грек. «Это, говорит, сущие пустяки. Клади, говорит, старик, на стол двадцать пять рублей, а я тебя навеки пачпортом обеспечу». Раскинул я умом туда-сюда. Эх, думаю, пропадай моя голова. Давай, говорю. И с тех пор, милый мой, вот я и живу по чужому пачпорту.
– Ах, дедушка, дедушка! – глубоко, со слезами в груди вздохнул Сергей. – Собаку мне уж больно жалко… Собака-то уж хороша очень…
– Сереженька, родной мой! – протянул к нему старик дрожащие руки. – Да будь только у меня пачпорт настоящий, разве я бы поглядел, что они генералы? За горло бы взял!.. «Как так? Позвольте! Какое имеете полное право чужих собак красть? Какой такой закон на это есть?» А теперь нам крышка, Сережа. Приду я в полицию – первое дело: «Подавай пачпорт! Это ты самарский мещанин Мартын Лодыжкин?» – «Я, вашескродие». А я, братец, и не Лодыжкин вовсе и не мещанин, а крестьянин, Иван Дудкин. А кто таков этот Лодыжкин – один бог его ведает. Почем я знаю, может, воришка какой или беглый каторжник? Или, может быть, даже убивец? Нет, Сережа, ничего мы тут не сделаем… Ничего, Сережа…
Голос у дедушки оборвался и захлебнулся. Слезы опять потекли по глубоким, коричневым от загара морщинам. Сергей, который слушал ослабевшего старика молча, с плотно сжатыми бронями, бледный от волнения, вдруг взял его под мышки и стал подымать.
– Пойдем, дедушка, – сказал он повелительно и ласково в то же время. – К черту пачпорт, пойдем! Не ночевать же нам на большой дороге.
– Милый ты мой, родной, – приговаривал, трясясь всем телом, старик. – Собачка-то уж очень затейная… Артошенька-то наш… Другой такой не будет у нас…
– Ладно, ладно… Вставай, – распоряжался Сергей. – Дай я тебя от пыли-то очищу. Совсем ты у меня раскис, дедушка.
В этот день артисты больше не работали. Несмотря на свой юный возраст, Сергей хорошо понимал все роковое значение этого страшного слова «пачпорт». Поэтому он не настаивал больше ни на дальнейших розысках Арто, ни на мировом, ни на других решительных мерах. Но пока он шел рядом с дедушкой до ночлега, с лица его не сходило новое, упрямое и сосредоточенное выражение, точно он задумал про себя что-то чрезвычайно серьезное и большое.
Не сговариваясь, но, очевидно, по одному и тому же тайному побуждению, они нарочно сделали значительный крюк, чтобы еще раз пройти мимо «Дружбы». Перед воротами они задержались немного, в смутной надежде увидеть Арто или хоть услышать издали его лай.
Но резные ворота великолепной дачи были плотно закрыты, и в тенистом саду под стройными печальными кипарисами стояла важная, невозмутимая, душистая тишина.
– Гос-спо-да! – шипящим голосом произнес старик, вкладывая в это слово всю едкую горечь, переполнившую его сердце.
– Будет тебе, пойдем, – сурово приказал мальчик и потянул своего спутника за рукав.
– Сереженька, может, убежит от них еще Артошка-то? – вдруг опять всхлипнул дедушка. – А? Как ты думаешь, милый?
Но мальчик не ответил старику. Он шел впереди большими, твердыми шагами. Его глаза упорно смотрели вниз на дорогу, а тонкие брови сердито сдвинулись к переносью.
VI
Молча дошли они до Алупки. Дедушка всю дорогу кряхтел и вздыхал, Сергей же сохранял на лице злое, решительное выражение. Они остановились на ночлег в грязной турецкой кофейной, носившей блестящее название «Ылдыз», что значит по-турецки «звезда». Вместе с ними ночевали греки – каменотесы, землекопы – турки, несколько человек русских рабочих, перебивавшихся поденным трудом, а также несколько темных, подозрительных бродяг, которых так много шатается по югу России. Все они, как только кофейная закрылась в определенный час, разлеглись на скамьях, стоящих вдоль стен, и прямо на полу, причем те, что были поопытнее, положили, из нелишней предосторожности, себе под голову все, что у них было наиболее ценного из вещей и из платья.
Было далеко за полночь, когда Сергей, лежавший на полу рядом с дедушкой, осторожно поднялся и стал бесшумно одеваться. Сквозь широкие окна лился в комнату бледный свет месяца, стелился косым, дрожащим переплетом по полу и, падая на спящих вповалку людей, придавал их лицам страдальческое и мертвое выражение.
– Ты куда носью ходись, мальцук? – сонно окликнул Сергея у дверей хозяин кофейной, молодой турок Ибрагим.
– Пропусти. Надо! – сурово, деловым тоном ответил Сергей. – Да вставай, что ли, турецкая лопатка!
Зевая, почесываясь и укоризненно причмокивая языком, Ибрагим отпер двери. Узкие улицы татарского базара были погружены в густую темно-синюю тень, которая покрывала зубчатым узором всю мостовую и касалась подножий домов другой, освещенной стороны, резко белевшей в лунном свете своими низкими стенами. На дальних окраинах местечка лаяли собаки. Откуда-то, с верхнего шоссе, доносился звонкий и дробный топот лошади, бежавшей иноходью.
Миновав белую, с зеленым куполом, в виде луковицы, мечеть, окруженную молчаливой толпой темных кипарисов, мальчик спустился по тесному кривому переулку на большую дорогу. Для легкости Сергей не взял с собой верхней одежды, оставшись в одном трико. Месяц светил ему в спину, и тень мальчика бежала впереди его черным, странным, укороченным силуэтом. По обоим бокам шоссе притаился темный курчавый кустарник. Какая-то птичка кричала в нем однообразно, через ровные промежутки, тонким, нежным голосом: «Сплю!.. Сплю!..» И казалось, что она покорно сторожит в ночной тишине какую-то печальную тайну, и бессильно борется со сном и усталостью, и тихо, без надежды, жалуется кому-то: «Сплю, сплю!..» А над темными кустами и над синеватыми шапками дальних лесов возвышался, упираясь своими двумя зубцами в небо, Ай-Петри – такой легкий, резкий, воздушный, как будто он был вырезан из гигантского куска серебряного картона.
Сергею было немного жутко среди этого величавого безмолвия, в котором так отчетливо и дерзко раздавались его шаги, но в то же время в сердце его разливалась какая-то щекочущая, головокружительная отвага. На одном повороте вдруг открылось море. Огромное, спокойное, оно тихо и торжественно зыбилось. От горизонта к берегу тянулась узкая, дрожащая серебряная дорожка; среди моря она пропадала, – лишь кое-где изредка вспыхивали ее блестки, – и вдруг у самой земли широко расплескивалась живым, сверкающим металлом, опоясывая берег.
Беззвучно проскользнул Сергей в деревянную калитку, ведущую в парк. Там, под густыми деревьями, было совсем темно. Издали слышался шум неугомонного ручья и чувствовалось его сырое, холодное дыхание. Отчетливо застучала под ногами деревянная настилка моста. Вода под ним была черная и страшная. Вот наконец и высокие чугунные ворота, узорчатые, точно кружево, и обвитые ползучими стеблями глициний. Лунный свет, прорезавшись сквозь чащу деревьев, скользил по резьбе ворот слабыми фосфорическими пятнами. По ту сторону был мрак и чутко-пугливая тишина.
Было несколько мгновений, в течение которых Сергей испытывал в душе колебание, почти страх. Но он поборол в себе эти томительные чувства и прошептал:
– А все-таки я полезу! Все равно!
Взобраться ему было нетрудно. Изящные чугунные завитки, составлявшие рисунок ворот, служили верными точками опоры для цепких рук и маленьких мускулистых ног. Над воротами на большой высоте перекинулась со столба на столб широкая каменная арка. Сергей ощупью взлез на нее, потом, лежа на животе, спустил ноги вниз, на другую сторону, и стал понемногу сталкивать туда же все туловище, не переставая искать ногами какого-нибудь выступа. Таким образом он уже совсем перевесился через арку, держась за ее край только пальцами вытянутых рук, но его ноги все еще не встречали опоры. Он не мог сообразить тогда, что арка над воротами выступала внутрь гораздо дальше, чем кнаружи, и по мере того как затекали его руки и как тяжелее свисало вниз обессилевшее тело, ужас все сильнее проникал в его душу.
Наконец он не выдержал. Его пальцы, цеплявшиеся за острый угол, разжались, и он стремительно полетел вниз.
Он слышал, как заскрежетал под ним крупный гравий, и почувствовал острую боль в коленях. Несколько секунд он стоял на четвереньках, оглушенный падением. Ему казалось, что сейчас проснутся все обитатели дачи, прибежит мрачный дворник в розовой рубахе, подымется крик, суматоха… Но, как и прежде, в саду была глубокая, важная тишина. Только какой-то низкий, монотонный, жужжащий звук разносился по всему саду:
«Жжу… жжу… жжу…»
«Ах, ведь это шумит у меня в ушах!» – догадался Сергей. Он поднялся на ноги; все было страшно, таинственно, сказочно-красиво в саду, точно наполненном ароматными снами. На клумбах тихо шатались, с неясной тревогой наклоняясь друг к другу, словно перешептываясь и подглядывая, едва видимые в темноте цветы. Стройные, темные, пахучие кипарисы медленно кивали своими острыми верхушками с задумчивым и укоряющим выражением. А за ручьем, в чаще кустов, маленькая усталая птичка боролась со сном и с покорной жалобой повторяла:
«Сплю!.. Сплю!.. Сплю!..»
Ночью, среди перепутавшихся на дорожках теней, Сергей не узнал места. Он долго бродил по скрипучему гравию, пока не вышел к дому.
Никогда в жизни мальчик не испытывал такого мучительного ощущения полной беспомощности, заброшенности и одиночества, как теперь. Огромный дом казался ему наполненным беспощадными притаившимися врагами, которые тайно, с злобной усмешкой следили из темных окон за каждым движением маленького, слабого мальчика. Молча и нетерпеливо ждали враги какого-то сигнала, ждали чьего-то гневного, оглушительно грозного приказания.
– Только не в доме… в доме ее не может быть! – прошептал, как сквозь сон, мальчик. – В доме она выть станет, надоест…
Он обошел дачу кругом. С задней стороны, на широком дворе, было расположено несколько построек, более простых и незатейливых с виду, очевидно, предназначенных для прислуги. Здесь, так же как и в большом доме, ни в одном окне не было видно огня; только месяц отражался в темных стеклах мертвым неровным блеском. «Не уйти мне отсюда, никогда не уйти!..» – с тоской подумал Сергей. Вспомнился ему на миг дедушка, старая шарманка, ночлеги в кофейных, завтраки у прохладных источников. «Ничего, ничего этого больше не будет!» – печально повторил про себя Сергей. Но чем безнадежнее становились его мысли, тем более страх уступал в его душе место какому-то тупому и спокойно-злобному отчаянию.
Тонкий, словно стонущий визг вдруг коснулся его слуха. Мальчик остановился, не дыша, с напряженными мускулами, вытянувшись на цыпочках. Звук повторился. Казалось, он исходил из каменного подвала, около которого Сергей стоял и который сообщался с наружным воздухом рядом-грубых, маленьких четырехугольных отверстий без стекол. Ступая по какой-то цветочной куртине, мальчик подошел к стене, приложил лицо к одной из отдушин и свистнул. Тихий, сторожкий шум послышался где-то внизу, но тотчас же затих.
– Арто! Артошка! – позвал Сергей дрожащим шепотом.
Неистовый, срывающийся лай сразу наполнил весь сад, отозвавшись во всех его уголках. В этом лае вместе с радостным приветом смешивались и жалоба, и злость, и чувство физической боли. Слышно было, как собака изо всех сил рвалась в темном подвале, силясь от чего-то освободиться.
– Арто! Собакушка!.. Артошенька!.. – вторил ей плачущим голосом мальчик.
– Цыц, окаянная! – раздался снизу зверский, басовый крик. – У, каторжная!
Что-то стукнуло в подвале. Собака залилась длинным прерывистым воем.
– Не смей бить! Не смей бить собаку, проклятый! – закричал в исступлении Сергей, царапая ногтями каменную стену.
Все, что произошло потом, Сергей помнил смутно, точно в каком-то бурном горячечном бреду. Дверь подвала широко с грохотом распахнулась, и из нее выбежал дворник. В одном нижнем белье, босой, бородатый, бледный от яркого света луны, светившей прямо ему в лицо, он показался Сергею великаном, разъяренным сказочным чудовищем.
– Кто здесь бродит? Застрелю! – загрохотал, точно гром, его голос по саду. – Воры! Грабят!
Но в ту же минуту из темноты раскрытой двери, как белый прыгающий комок, выскочил с лаем Арто. На шее у него болтался обрывок веревки.
Впрочем, мальчику было не до собаки. Грозный вид дворника охватил его сверхъестественным страхом, связал его ноги, парализовал все его маленькое тонкое тело. Но к счастью, этот столбняк продолжался недолго. Почти бессознательно Сергей испустил пронзительный, долгий, отчаянный вопль и наугад, не видя дороги, не помня себя от испуга, пустился бежать прочь от подвала.
Он мчался, как птица, крепко и часто ударяя о землю ногами, которые внезапно сделались крепкими, точно две стальные пружины. Рядом с ним скакал, заливаясь радостным лаем, Арто. Сзади тяжело грохотал по песку дворник, яростно рычавший какие-то ругательства.
С размаху Сергей наскочил на ворота, но мгновенно не подумал, а скорее инстинктивно почувствовал, что здесь дороги нет. Между каменной стеной и растущими вдоль нее кипарисами была узкая темная лазейка. Не раздумывая, подчиняясь одному чувству страха, Сергей, нагнувшись, юркнул в нее и побежал вдоль стены. Острые иглы кипарисов, густо и едко пахнувших смолой, хлестали его по лицу. Он спотыкался о корни, падал, разбивая себе в кровь руки, но тотчас же вставал, не замечая даже боли, и опять бежал вперед, согнувшись почти вдвое, не слыша своего крика. Арто кинулся следом за ним.
Так бежал он по узкому коридору, образованному с одной стороны – высокой стеной, с другой – тесным строем кипарисов, бежал, точно маленький обезумевший от ужаса зверек, попавший в бесконечную западню. Во рту у него пересохло, и каждое дыхание кололо в груди тысячью иголок. Топот дворника доносился то справа, то слева, и потерявший голову мальчик бросался то вперед, то назад, несколько раз пробегая мимо ворот и опять ныряя в темную, тесную лазейку.
Наконец Сергей выбился из сил. Сквозь дикий ужас им стала постепенно овладевать холодная, вялая тоска, тупое равнодушие ко всякой опасности. Он сел под дерево, прижался к его стволу изнемогшим от усталости телом и зажмурил глаза. Все ближе и ближе хрустел песок под грузными шагами врага. Арто тихо подвизгивал, уткнув морду в колени Сергея.
В двух шагах от мальчика зашумели ветви, раздвигаемые руками. Сергей бессознательно поднял глаза кверху и вдруг, охваченный невероятною радостью, вскочил одним толчком на ноги. Он только теперь заметил, что стена напротив того места, где он сидел, была очень низкая, не более полутора аршин. Правда, верх ее был утыкан вмазанными в известку бутылочными осколками, но Сергей не задумался над этим. Мигом схватил он поперек туловища Арто и поставил его передними лапами на стену. Умный пес отлично понял его. Он быстро вскарабкался на стену, замахал хвостом и победно залаял.
Следом за ним очутился на стене и Сергей, как раз в то время, когда из расступившихся ветвей кипарисов выглянула большая темная фигура. Два гибких, ловких тела – собаки и мальчика – быстро и мягко прыгнули вниз на дорогу. Вслед им понеслась, подобно грязному потоку, скверная, свирепая ругань.
Был ли дворник менее проворным, чем два друга, устал ли он от круженья по саду или просто не надеялся догнать беглецов, но он не преследовал их больше. Тем не менее они долго еще бежали без отдыха, – оба сильные, ловкие, точно окрыленные радостью избавления. К пуделю скоро вернулось его обычное легкомыслие. Сергей еще оглядывался боязливо назад, а Арто уже скакал на него, восторженно болтая ушами и обрывком веревки, и все изловчался лизнуть его с разбега в самые губы.
Мальчик пришел в себя только у источника, у того самого, где накануне днем они с дедушкой завтракали. Припавши вместе ртами к холодному водоему, собака и человек долго и жадно глотали свежую, вкусную воду. Они отталкивали друг друга, приподнимали на минуту кверху головы, чтобы перевести дух, причем с губ звонко капала вода, и опять с новой жаждой приникали к водоему, не будучи в силах от него оторваться. И когда они наконец отвалились от источника и пошли дальше, то вода плескалась и булькала в их переполненных животах. Опасность миновала, все ужасы этой ночи прошли без следа, и им обоим весело и легко было идти по белой дороге, ярко освещенной луной, между темными кустарниками, от которых уже тянуло утренней сыростью и сладким запахом освеженного листа.
В кофейной «Ылдыз» Ибрагим встретил мальчика с укоризненным шепотом:
– И сто ти се сляесься, мальцук? Сто ти се сляесься? Вай-вай-вай, нехоросо…
Сергей не хотел будить дедушку, но это сделал за него Арто. Он в одно мгновение отыскал старика среди груды валявшихся на полу тел и, прежде чем тот успел опомниться, облизал ему с радостным визгом щеки, глаза, нос и рот. Дедушка проснулся, увидел на шее пуделя веревку, увидел лежащего рядом с собой, покрытого пылью мальчика и понял все. Он обратился было к Сергею за разъяснениями, но не мог ничего добиться. Мальчик уже спал, разметав в стороны руки и широко раскрыв рот.
<1903>
11. Носов Н.Н. "Витя Малеев в школе и дома"
Глава первая
Подумать только, как быстро время летит! Не успел я оглянуться, как каникулы кончились и пришла пора идти в школу. Целое лето я только и делал, что бегал по улицам да играл в футбол, а о книжках даже позабыл думать. То есть я читал иногда книжки, только не учебные, а какие-нибудь сказки или рассказы, а так чтоб позаниматься по русскому языку или по арифметике – этого не было. По русскому я и так хорошо учился, а арифметики не любил. Хуже всего для меня было – это задачи решать. Ольга Николаевна даже хотела дать мне работу на лето по арифметике, но потом пожалела и перевела в четвертый класс так, без работы.
– Не хочется тебе лето портить, – сказала она. – Я переведу тебя так, но ты дай обещание, что сам позанимаешься по арифметике летом.
Я, конечно, обещание дал, но, как только занятия кончились, вся арифметика выскочила у меня из головы, и я, наверно, так и не вспомнил бы о ней, если б не пришла пора идти в школу. Стыдно было мне, что я не исполнил своего обещания, но теперь уж все равно ничего не поделаешь.
Ну и вот, значит, пролетели каникулы! В одно прекрасное утро – это было первого сентября – я встал пораньше, сложил свои книжечки в сумку и отправился в школу. В этот день на улице, как говорится, царило большое оживление. Все мальчики и девочки, и большие и маленькие, как по команде, высыпали на улицу и шагали в школу. Они шли и по одному, и по двое, и даже целыми группами по нескольку человек. Кто шел не спеша, вроде меня, кто мчался стремглав, как на пожар. Малыши тащили цветы, чтобы украсить класс. Девчонки визжали. И ребята тоже некоторые визжали и смеялись. Всем было весело. И мне было весело. Я был рад, что снова увижу свой пионерский отряд, всех ребят-пионеров из нашего класса и нашего вожатого Володю, который работал с нами в прошлом году. Мне казалось, будто я путешественник, который когда-то давно уехал в далекое путешествие, а теперь возвращается обратно домой и вот-вот скоро уже увидит родные берега и знакомые лица родных и друзей.
Но все-таки мне было не совсем весело, так как я знал, что не встречу среди старых школьных друзей Федю Рыбкина – моего лучшего друга, с которым мы в прошлом году сидели за одной партой. Он недавно уехал со своими родителями из нашего города, и теперь уж никто не знает, увидимся мы с ним когда-нибудь или нет.
И еще мне было грустно, так как я не знал, что скажу Ольге Николаевне, если она меня спросит, занимался ли я летом по арифметике. Ох, уж эта мне арифметика! Из-за нее у меня настроение совсем испортилось.
Яркое солнышко сияло на небе по-летнему, но прохладный осенний ветер срывал с деревьев пожелтевшие листья. Они кружились в воздухе и падали вниз. Ветер гнал их по тротуару, и казалось, что листочки тоже куда-то спешат.
Еще издали я увидел над входом в школу большой красный плакат. Он был увит со всех сторон гирляндами из цветов, а на нем было написано большими белыми буквами: «Добро пожаловать!» Я вспомнил, что такой же плакат висел в этот день здесь и в прошлом году, и в позапрошлом, и в тот день, когда я совсем еще маленьким пришел первый раз в школу. И мне вспомнились все прошлые годы. Как мы учились в первом классе и мечтали поскорей подрасти и стать пионерами.
Все это вспомнилось мне, и какая-то радость встрепенулась у меня в груди, будто случилось что-то хорошее-хорошее! Ноги мои сами собой зашагали быстрей, и я еле удержался, чтоб не пуститься бегом. Но это было мне не к лицу: ведь я не какой-нибудь первоклассник – как-никак, все-таки четвертый класс!
Во дворе школы уже было полно ребят. Ребята собирались группами. Каждый класс отдельно. Я быстро разыскал свой класс. Ребята увидели меня и с радостным криком побежали навстречу, стали хлопать по плечам, по спине. Я и не думал, что все так обрадуются моему приходу.
– А где же Федя Рыбкин? – спросил Гриша Васильев.
– Правда, где Федя? – закричали ребята. – Вы всегда вместе ходили. Где ты его потерял?
– Нету Феди, – ответил я. – Он не будет больше у нас учиться.
– Почему?
– Он уехал из нашего города со своими родителями.
– Как так?
– Очень просто.
– А ты не врешь? – спросил Алик Сорокин.
– Вот еще! Стану я врать!
Ребята смотрели на меня и недоверчиво улыбались.
– Ребята, и Вани Пахомова нет, – сказал Леня Астафьев.
– И Сережи Букатина! – закричали ребята.
– Может быть, они тоже уехали, а мы и не знаем, – сказал Толя Дёжкин.
Тут, как будто в ответ на это, отворилась калитка, и мы увидели, что к нам приближается Ваня Пахомов.
– Ура! – закричали мы.
Все побежали навстречу Ване и набросились на него.
– Пустите! – отбивался от нас Ваня. – Человека никогда в жизни не видели, что ли?
Но каждому хотелось похлопать его по плечу или по спине. Я тоже хотел хлопнуть его по спине, но по ошибке попал по затылку.
– А, так вы еще драться! – рассердился Ваня и изо всех сил принялся вырываться от нас.
Но мы еще плотней окружили его.
Не знаю, чем бы все это кончилось, но тут пришел Сережа Букатин. Все бросили Ваню на произвол судьбы и накинулись на Букатина.
– Вот теперь, кажется, уже все в сборе, – сказал Женя Комаров.
– Все, если не считать Феди Рыбкина, – ответил Игорь Грачев.
– Как же его считать, если он уехал?
– А может, это еще и неправда. Вот мы у Ольги Николаевны спросим.
– Хотите верьте, хотите нет. Очень мне нужно обманывать! – сказал я.
Ребята принялись разглядывать друг друга и рассказывать, кто как провел лето. Кто ездил в пионерлагерь, кто жил с родителями на даче. Все мы за лето выросли, загорели. Но больше всех загорел Глеб Скамейкин. Лицо у него было такое, будто его над костром коптили. Только светлые брови сверкали на нем.
– Где это ты загорел так? – спросил его Толя Дёжкин. – Небось целое лето в пионерлагере жил?
– Нет. Сначала я был в пионерлагере, а потом в Крым поехал.
– Как же ты в Крым попал?
– Очень просто. Папе на заводе дали путевку в дом отдыха, а он придумал, чтоб мы с мамой тоже поехали.
– Значит, ты в Крыму побывал?
– Побывал.
– А море видел?
– Видел и море. Все видел.
Ребята обступили Глеба со всех сторон и стали разглядывать, как какую-нибудь диковинку.
– Ну так рассказывай, какое море. Чего ж ты молчишь? – сказал Сережа Букатин.
– Море – оно большое, – начал рассказывать Глеб Скамейкин. – Оно такое большое, что если на одном берегу стоишь, то другого берега даже не видно. С одной стороны есть берег, а с другой стороны никакого берега нет. Вот как много воды, ребята! Одним словом, одна вода! А солнце там печет так, что с меня сошла вся кожа.
– Врешь!
– Честное слово! Я сам даже испугался сначала, а потом оказалось, что у меня под этой кожей есть еще одна кожа. Вот я теперь и хожу в этой второй коже.
– Да ты не про кожу, а про море рассказывай!
– Сейчас расскажу… Море – оно громадное! А воды в море пропасть! Одним словом – целое море воды.
Неизвестно, что еще рассказал бы Глеб Скамейкин про море, но в это время к нам подошел Володя. Ну и крик тут поднялся! Все обступили его. Каждый спешил рассказать ему что-нибудь о себе. Все спрашивали, будет он у нас в этом году вожатым или нам дадут кого-нибудь другого.
– Что вы, ребята! Да разве я отдам вас кому-нибудь другому? Будем работать с вами, как и в прошлом году. Ну, если я сам надоем вам, тогда дело другое! – засмеялся Володя.
– Вы? Надоедите?.. – закричали мы все сразу. – Вы нам никогда в жизни не надоедите! Нам с вами всегда весело!
Володя рассказал нам, как он летом со своими товарищами комсомольцами ездил в путешествие по реке на резиновой лодке. Потом он сказал, что еще увидится с нами, и пошел к своим товарищам старшеклассникам. Ему ведь тоже хотелось поговорить со своими друзьями. Нам было жалко, что он ушел, но тут к нам подошла Ольга Николаевна. Все очень обрадовались, увидев ее.
– Здравствуйте, Ольга Николаевна! – закричали мы хором.
– Здравствуйте, ребята, здравствуйте! – улыбнулась Ольга Николаевна. – Ну как, нагулялись за лето?
– Нагулялись, Ольга Николаевна!
– Хорошо отдохнули?
– Хорошо.
– Не надоело отдыхать?
– Надоело, Ольга Николаевна! Учиться хочется!
– Вот и прекрасно!
– А я, Ольга Николаевна, так отдыхал, что даже устал! Если б еще немного – совсем бы из сил выбился, – сказал Алик Сорокин.
– А ты, Алик, я вижу, не переменился. Такой же шутник, как и в прошлом году был.
– Такой же, Ольга Николаевна, только подрос немного
– Ну, подрос-то ты порядочно, – усмехнулась Ольга Николаевна.
– Только ума не набрался, – добавил Юра Касаткин. Весь класс громко фыркнул.
– Ольга Николаевна, Федя Рыбкин не будет больше у нас учиться, – сказал Дима Балакирев.
– Я знаю. Он уехал со своими родителями в Москву.
– Ольга Николаевна, а Глеб Скамейкин в Крыму был и море видел.
– Вот и хорошо. Когда будем сочинение писать, Глеб напишет про море.
– Ольга Николаевна, а с него сошла кожа.
– С кого?
– С Глебки.
– А, ну хорошо, хорошо. Об этом поговорим после, а сейчас постройтесь в линейку, скоро в класс идти надо.
Мы построились в линейку. Все остальные классы тоже построились. На крыльце школы появился директор Игорь Александрович. Он поздравил нас с началом нового учебного года и пожелал всем ученикам в этом новом учебном году хороших успехов. Потом классные руководители стали разводить учеников по классам. Сначала пошли самые маленькие ученики – первоклассники, за ними второй класс, потом третий, а потом уж мы, а за нами пошли старшие классы.
Ольга Николаевна привела нас в класс. Все ребята решили сесть как в прошлом году, поэтому я оказался за партой один, у меня не было пары. Всем казалось, что в этом году нам достался маленький класс, гораздо меньше, чем в прошлом году.
– Класс такой же, как в прошлом году, точно таких же размеров, – объяснила Ольга Николаевна. – Все вы за лето выросли, вот вам и кажется, что класс меньше.
Это была правда. Я потом нарочно на переменке пошел посмотреть на третий класс. Он был точно такой же, как и четвертый.
На первом уроке Ольга Николаевна сказала, что в четвертом классе нам придется работать гораздо больше, чем раньше, – так у нас будет много предметов. Кроме русского языка, арифметики и других предметов, которые были у нас в прошлом году, теперь прибавляются еще география, история и естествознание. Поэтому надо браться за учебу как следует с самого начала года. Мы записали расписание уроков. Потом Ольга Николаевна сказала, что нам надо выбрать старосту класса и его помощника.
– Глеба Скамейкина старостой! Глеба Скамейкина! – закричали ребята.
– Тише! Шуму-то сколько! Разве вы не знаете, как выбирать? Кто хочет сказать, должен поднять руку.
Мы стали выбирать организованно и выбрали старостой Глеба Скамейкина, а помощником – Шуру Маликова.
На втором уроке Ольга Николаевна сказала, что вначале мы будем повторять то, что проходили в прошлом году, и она будет проверять, кто что забыл за лето. Она тут же начала проверку, и вот оказалось, что я даже таблицу умножения забыл. То есть не всю, конечно, а только с конца. До семью семь – сорок девять я хорошо помнил, а дальше путался.
– Эх, Малеев, Малеев! – сказала Ольга Николаевна. – Вот и видно, что ты за лето даже в руки книжку не брал!
Это моя фамилия Малеев. Ольга Николаевна, когда сердится, всегда меня по фамилии называет, а когда не сердится, то зовет просто Витя.
Я заметил, что в начале года учиться почему-то всегда трудней. Уроки кажутся длинными, будто их кто-то нарочно растягивает. Если б я был главным начальником над школами, я бы сделал как-нибудь так, чтоб занятия начинались не сразу, а постепенно, чтоб ребята понемногу отвыкали гулять и понемногу привыкали к урокам. Например, можно было бы сделать так, чтоб в первую неделю было только по одному уроку, во вторую неделю – по два урока, в третью – по три, и так далее. Или еще можно было бы сделать так, чтоб в первую неделю были одни только легкие уроки, например физкультура, во вторую неделю к физкультуре можно добавить пение, в третью неделю можно добавить русский язык, и так, пока не дойдет до арифметики. Может быть, кто-нибудь подумает, что я ленивый и вообще не люблю учиться, но это неправда. Я очень люблю учиться, но мне трудно начать работать сразу: то гулял, гулял, а тут вдруг стоп машина – давай учись.
На третьем уроке у нас была география. Я думал, что география – это какой-нибудь очень трудный предмет, вроде арифметики, но оказалось, что она совсем легкая. География – это наука о Земле, на которой мы все живем; про то, какие на Земле горы и реки, какие моря и океаны. Раньше я думал, что Земля наша плоская, как будто блин, но Ольга Николаевна сказала, что Земля вовсе не плоская, а круглая, как шар. Я уже и раньше слыхал об этом, но думал, что это, может быть, сказки или какие-нибудь выдумки. Но теперь уже точно известно, что это не сказки. Наука установила, что Земля наша – это огромнейший-преогромнейший шар, а на этом шаре вокруг живут люди. Оказывается, что Земля притягивает к себе всех людей и зверей и все, что на ней находится, поэтому люди, которые живут внизу, никуда не падают. И вот еще что интересно: те люди, которые живут внизу, ходят вверх ногами, то есть вниз головой, только они сами этого не замечают и воображают, что ходят правильно. Если они опустят голову вниз и посмотрят себе под ноги, то увидят землю, на которой стоят, а если задерут голову кверху, то увидят над собой небо. Вот поэтому им и кажется, что они ходят правильно.
На географии мы немножечко развеселились, а на последнем уроке случилось интересное происшествие. Уже прозвонил звонок, и в класс пришла Ольга Николаевна, как вдруг отворилась дверь, и на пороге появился совсем незнакомый ученик. Он постоял нерешительно возле двери, потом поклонился Ольге Николаевне и сказал:
– Здравствуйте!
– Здравствуйте, – ответила Ольга Николаевна. – Что ты хочешь сказать?
– Ничего.
– Зачем же ты пришел, если ничего не хочешь сказать?
– Так просто.
– Что-то я не пойму тебя!
– Я учиться пришел. Здесь ведь четвертый класс?
– Здесь.
– Вот мне и надо в четвертый.
– Так ты новичок, должно быть?
– Новичок.
Ольга Николаевна заглянула в журнал:
– Твоя фамилия Шишкин?
– Шишкин, а зовут Костя.
– Почему же ты, Костя Шишкин, так поздно пришел? Разве ты не знаешь, что в школу надо с утра являться?
– Я и явился с утра. Я только на первый урок опоздал.
– На первый урок? А теперь уже четвертый. Где же ты пропадал два урока?
– Я был там… в пятом классе.
– Чего же ты в пятый класс попал?
– Я пришел в школу, слышу – звонок, ребята гурьбой бегут в класс… Ну, и я за ними, вот и попал в пятый класс. На перемене ребята спрашивают: «Ты новичок?» Я говорю: «Новичок». Они ничего не сказали мне, и я только на следующем уроке разобрался, что не в свой класс попал. Вот.
– Вот садись на место и не попадай больше в чужой класс, – сказала Ольга Николаевна.
Шишкин подошел к моей парте и сел рядом со мной, потому что я сидел один и место было свободно.
Весь урок ребята оглядывались на него и потихоньку посмеивались. Но Шишкин не обращал на это внимания и делал вид, будто с ним ничего смешного не произошло. Нижняя губа у него немного выпячивалась вперед, а нос как-то сам собой задирался кверху. От этого у него получался какой-то презрительный вид, будто он чем-то гордился.
После уроков ребята обступили его со всех сторон.
– Как же ты попал в пятый класс? Неужели учительница не проверяла ребят? – спросил Слава Ведерников.
– Может быть, и проверяла на первом уроке, а я ведь пришел на второй урок.
– Почему же она не заметила, что на втором уроке появился новый ученик?
– А на втором уроке уже другой учитель был, – ответил Шишкин. – Там ведь не так, как в четвертом классе. Там на каждом уроке другой учитель, и, пока учителя не знают ребят, получается путаница.
– Это только с тобой получилась путаница, а вообще никакой путаницы не бывает, – сказал Глеб Скамейкин. – Каждый должен знать, в какой ему класс надо.
– А если я новичок? – говорит Шишкин.
– Новичок, так не надо опаздывать. И потом, разве у тебя языка нету. Мог спросить.
– Когда же спрашивать? Вижу – ребята бегут, ну и я за ними.
– Ты так и в десятый класс мог попасть!
– Нет, в десятый я не попал бы. Это я сразу бы догадался: там ребята большие, – улыбнулся Шишкин.
Я взял свои книжки и пошел домой. В коридоре меня встретила Ольга Николаевна
– Ну, Витя, как ты думаешь учиться в этом году? – спросила она. – Пора тебе, дружочек, браться за дело как следует. Тебе нужно приналечь на арифметику, она у тебя с прошлого года хромает. А таблицы умножения стыдно не знать. Ведь ее во втором классе проходят.
– Да я ведь знаю, Ольга Николаевна. Я только с конца немножко забыл!
– Таблицу всю от начала до конца надо хорошо знать. Без этого нельзя в четвертом классе учиться. К завтрашнему дню выучи, я проверю.
Глава вторая
Все девчонки воображают, что они очень умные. Не знаю, отчего у них такое большое воображение!
Моя младшая сестра Лика перешла в третий класс и теперь думает, что меня можно совсем не слушаться, будто я ей вовсе не старший брат и у меня нет никакого авторитета. Сколько раз я говорил ей, чтоб она не садилась за уроки сразу, как только придет из школы. Это ведь очень вредно! Пока учишься в школе, мозг в голове устает и ему надо сначала дать отдохнуть часа два, полтора, а потом уже можно садиться за уроки. Но Лике хоть говори, хоть нет, она ничего слушать не хочет.
Вот и теперь: пришел я домой, а она тоже уже вернулась из школы, разложила на столе книжки и занимается.
Я говорю:
– Что же ты, голубушка, делаешь? Разве ты не знаешь, что после школы надо мозгу давать отдых?
– Это, – говорит, – я знаю, только мне так удобней. Я сделаю уроки сразу, а потом свободна: хочу – гуляю, хочу – что хочу делаю.
– Экая, – говорю, – ты бестолковая! Мало я тебе в прошлом году твердил! Что я могу сделать, если ты своего старшего брата не хочешь слушать? Вот вырастет из тебя тупица, тогда узнаешь!
– А что я могу сделать? – сказала она. – Я ни минуточки не могу посидеть спокойно, пока дела не сделаю.
– Будто потом нельзя сделать! – ответил я. – Выдержку надо иметь.
– Нет, уж лучше я сначала сделаю и буду спокойна. Ведь уроки у нас легкие. Не то что у вас, в четвертом классе.
– Да, – говорю, – у нас не то что у вас. Вот перейдешь в четвертый класс, тогда узнаешь, где раки зимуют.
– А что тебе сегодня задано? – спросила она.
– Это не твоего ума дело, – ответил я. – Ты все равно ничего не поймешь, так что и рассказывать не стоит.
Не мог же я сказать ей, что мне задано повторять таблицу умножения! Ее ведь во втором классе проходят.
Я решил с самого начала взяться за учебу как следует и сразу засел повторять таблицу умножения. Конечно, я повторял ее про себя, чтоб Лика не слышала, но она скоро окончила свои уроки и убежала играть с подругами. Тогда я принялся учить таблицу как следует, вслух, и выучил ее так, что меня хоть разбуди ночью и спроси, сколько будет семью семь или восемью девять, я без запинки отвечу.
Зато на другой день Ольга Николаевна вызвала меня и проверила, как я выучил таблицу умножения.
– Вот видишь, – сказала она, – когда ты хочешь, то можешь учиться как следует! Я ведь знаю, что у тебя способности есть.
Все было бы хорошо, если б Ольга Николаевна спросила меня только таблицу, но ей еще захотелось, чтоб я задачу на доске решил. Этим она, конечно, все дело испортила.
Я вышел к доске, и Ольга Николаевна продиктовала задачу про каких-то плотников, которые строили дом. Я записал условие задачи на доске мелом и стал думать. Но это, конечно, только так говорится, что я стал думать. Задача попалась такая трудная, что я все равно не решил бы ее. Я только нарочно наморщил лоб, чтоб Ольга Николаевна видела, будто я думаю, а сам стал украдкой поглядывать на ребят, чтоб они подсказали мне. Но подсказывать тому, кто стоит у доски, очень трудно, и все ребята молчали.
– Ну, как ты станешь решать задачу? – спросила Ольга Николаевна. – Какой будет первый вопрос?
Я только сильнее наморщил лоб и, повернувшись вполоборота к ребятам, изо всех сил заморгал одним глазом. Ребята сообразили, что мое дело плохо, и стали подсказывать.
– Тише, ребята, не подсказывайте! Я сама помогу ему, если надо, – сказала Ольга Николаевна.
Она стала объяснять мне задачу и сказала, как сделать первый вопрос. Я хотя ничего не понял, но все-таки решил на доске первый вопрос.
– Правильно, – сказала Ольга Николаевна. – Теперь какой будет второй вопрос?
Я снова задумался и замигал глазом ребятам. Ребята опять стали подсказывать.
– Тише! Мне ведь все слышно, а вы только ему мешаете! – сказала Ольга Николаевна и принялась объяснять мне второй вопрос.
Таким образом, постепенно, с помощью Ольги Николаевны и с подсказкой ребят, я решил наконец задачу.
– Теперь ты понял, как нужно решать такие задачи? – спросила Ольга Николаевна.
– Понял, – ответил я.
На самом деле я, конечно, совсем ничего не понял, но мне стыдно было признаться, что я такой бестолковый, к тому же я боялся, что Ольга Николаевна поставит мне плохую отметку, если я скажу, что не понял. Я сел на место, списал задачу в тетрадь и решил еще дома подумать над ней как следует.
После урока говорю ребятам:
– Что же вы подсказываете так, что Ольга Николаевна все слышит? Орут на весь класс! Разве так подсказывают?
– Как же тут подскажешь, когда ты возле доски стоишь! – говорит Вася Ерохин. – Вот если б тебя с места вызвали…
– «С места, с места»! Потихоньку надо.
– Я и подсказывал тебе сначала потихоньку, а ты стоишь и ничего не слышишь.
– Так ты, наверно, себе под нос шептал, – говорю я.
– Ну вот! Тебе и громко нехорошо и тихо нехорошо! Не разберешь, как тебе надо!
– Совсем никак не надо, – сказал Ваня Пахомов. – Самому надо соображать, а не слушать подсказку.
– Зачем же мне свою голову утруждать, если я все равно ничего в этих задачах не понимаю? – говорю я.
– Оттого и не понимаешь, что не хочешь соображать, – сказал Глеб Скамейкин. – Надеешься на подсказку, а сам не учишься. Я лично никому больше подсказывать не буду. Надо, чтоб был порядок в классе, а от этого один вред.
– Найдутся и без тебя, подскажут, – говорю я.
– А я все равно буду бороться с подсказкой, – говорит Глеб.
– Ну, не больно-то задавайся! – ответил я.
– Почему «задавайся»? Я староста класса! Я добьюсь, чтоб подсказки не было.
– И нечего, – говорю, – воображать, если тебя старостой выбрали! Сегодня ты староста, а завтра я староста.
– Ну вот, когда тебя выберут, а пока еще не выбрали. Тут и другие ребята вмешались и стали спорить, нужно подсказывать или нет. Но мы так ни до чего и не доспорились. Прибежал Дима Балакирев. Он узнал, что летом на пустыре позади школы старшие ребята устроили футбольное поле. Мы решили прийти после обеда и сыграть в футбол. После обеда мы собрались на футбольном поле, разбились на две команды, чтоб играть по всем правилам, но тут в нашей команде произошел спор, кому быть вратарем. Никто не хотел стоять в воротах. Каждому хотелось бегать по всему полю и забивать голы. Все говорили, чтоб вратарем был я, но мне хотелось быть центром нападения или хотя бы полузащитником. На мое счастье, Шишкин согласился сделаться вратарем. Он сбросил с себя куртку, стал в воротах, и игра началась.
Сначала перевес оказался на стороне противников. Они все время атаковали наши ворота. Вся наша команда смешалась в кучу. Мы без толку носились по полю и только мешали друг другу. На наше счастье, Шишкин оказался замечательным вратарем. Он прыгал, как кошка или какая-нибудь пантера, и не пропустил в наши ворота ни одного мяча. Наконец нам удалось завладеть мячом, и мы погнали его к воротам противника. Кто-то из наших пробил по воротам, и счет оказался 1:0 в нашу пользу. Мы обрадовались и с новыми силами начали нажимать на вражеские ворота. Скоро нам удалось забить еще гол, и счет оказался 2:0 в нашу пользу. Тут игра почему-то снова перешла на нашу половину поля. Нас опять стали теснить, и мы никак не могли отогнать мяч от наших ворот. Тогда Шишкин схватил мяч руками и помчался с ним прямо к воротам противника. Там он положил мяч на землю и уже хотел забить гол, но тут Игорь Грачев ловко отыграл у него мяч, передал его Славе Ведерникову, Слава Ведерников – Ване Пахомову, и не успели мы оглянуться, как мяч уже был в наших воротах. Счет стал 2:1. Шишкин со всех ног побежал на свое место, но, пока он бежал, нам снова забили гол, и счет стал 2:2. Мы принялись ругать на все лады Шишкина за то, что он оставил свои ворота, а он оправдывался и говорил, что теперь будет играть по всем правилам. Но из этих обещаний ничего не вышло. Он то и дело выскакивал из ворот, и как раз в это время нам забивали голы. Игра продолжалась до позднего вечера. Мы забили шестнадцать голов, а нам забили двадцать один. Нам хотелось еще поиграть, но темнота наступила такая, что мяча не стало видно, и пришлось разойтись по домам. По дороге все только и говорили, что мы проиграли из-за Шишкина, потому что он все время выскакивал из ворот.
– Ты, Шишкин, замечательный вратарь, – сказал Юра Касаткин. – Если бы ты исправно стоял в воротах, наша команда была бы непобедимой.
– Не могу я стоять спокойно, – ответил Шишкин. – Я люблю играть в баскетбол, потому что там можно каждому бегать по всему полю и никакого вратаря не полагается и к тому же все могут хватать мяч руками. Вот давайте организуем баскетбольную команду.
Шишкин начал рассказывать о том, как нужно играть в баскетбол, и, по его словам, эта игра была не хуже футбола.
– Надо поговорить с нашим преподавателем физкультуры, – сказал Юра. – Может быть, он поможет нам оборудовать площадку для баскетбола.
Когда мы подошли к скверу, где нужно было поворачивать на нашу улицу, Шишкин вдруг остановился и закричал:
– Батюшки! Я ведь свою куртку на футбольном поле забыл!
Он повернулся и бросился бегом назад. Удивительный это был человек! Вечно с ним случались какие-нибудь недоразумения. Бывают же такие люди на свете!
Домой я вернулся в девятом часу. Мама стала бранить меня за то, что я задержался так поздно, но я сказал, что еще не поздно, потому что теперь уже осень, а осенью всегда темнеет раньше, чем летом, и если бы это было летом, то никому не показалось бы, что уже поздно, потому что летом дни гораздо длиннее, и в это время было бы еще светло, и всем казалось бы, что еще рано.
Мама сказала, что у меня вечно какие-нибудь отговорки, и велела делать уроки. Я, конечно, засел за уроки. То есть я засел за уроки не сразу, так как я очень устал на футболе и мне хотелось немножечко отдохнуть.
– Чего же ты не делаешь уроки? – спросила Лика. – Ведь твой мозг, наверно, давно отдохнул.
– Я сам знаю, сколько нужно моему мозгу отдыхать! – ответил я.
Теперь я уже не мог тут же сесть за уроки, чтоб Лика не вообразила, будто это она меня заставила заниматься. Поэтому я решил еще немножечко отдохнуть и стал рассказывать про Шишкина, какой он растяпа и как он забыл на футбольном поле свою куртку. Скоро пришел с работы папа и стал рассказывать, что их завод получил заказ на изготовление новых машин для Куйбышевского гидроузла, и я снова не мог делать уроки, потому что мне интересно было послушать.
Мой папа работает на сталелитейном заводе модельщиком. Он делает модели. Что такое модель, наверно, никто не знает, а я знаю. Чтоб отлить какую-нибудь деталь для машины из стали, всегда нужно сделать сначала такую же деталь из дерева, и вот такая деревянная деталь называется моделью. Для чего нужна модель? А вот для чего: модель возьмут, поставят в опоку, то есть в такой вроде железный ящик, только без дна, потом насыплют в опоку земли, и, когда модель вынут, в земле получается углубление по форме модели. В это углубление заливают расплавленный металл, и когда металл застынет, то получится деталь, точно такая же по форме, как была модель. Когда на завод приходит заказ на новые детали, инженеры чертят чертежи, а модельщики делают по этим чертежам модели. Конечно, модельщик должен быть очень умным, потому что он по простому чертежу обязан понять, какую нужно делать модель, а если он сделает модель плохо, то по ней нельзя будет отливать детали. Мой папа очень хороший модельщик. Он даже придумал электрический лобзик, чтоб выпиливать из дерева разные мелкие части. А теперь он изобретает шлифовальный прибор для шлифовки деревянных моделей. Раньше шлифовали модели вручную, а когда папа сделает такой прибор, все модельщики будут шлифовать модели этим прибором. Когда папа приходит с работы, он всегда сначала отдохнет немного, а потом садится за чертежи для своего прибора или читает книжки, чтоб узнать, как что нужно сделать, потому что это не такая простая вещь – самому придумывать шлифовальный прибор.
Папа поужинал и засел за свои чертежи, а я засел делать уроки. Сначала я выучил географию, потому что она самая легкая. После географии я взялся за русский язык. По русскому языку нужно было списать упражнение и подчеркнуть в словах корень, приставку и окончание. Корень – одной чертой, приставку – двумя, а окончание – тремя. Потом я выучил английский язык и взялся за арифметику. На дом была задана такая скверная задача, что я никак не мог догадаться, как ее решить. Я сидел целый час, пялил глаза в задачник и изо всех сил напрягал мозг, но ничего у меня не выходило. Вдобавок мне страшно захотелось спать. В глазах у меня щипало, будто мне кто-нибудь в них песку насыпал.
– Довольно тебе сидеть, – сказала мама, – пора спать ложиться. У тебя глаза уже сами собой закрываются, а ты все сидишь!
– Что же я, с несделанной задачей завтра в школу приду? – сказал я.
– Днем надо заниматься, – ответила мама. – Нечего приучаться по ночам сидеть! От таких занятий никакого толку не будет. Ты все равно уже ничего не соображаешь.
– Вот и пусть сидит, – сказал папа. – Будет знать в другой раз, как уроки на ночь откладывать.
И вот я сидел и перечитывал задачу до тех пор, пока буквы в задачнике не стали кивать, и кланяться, и прятаться друг за дружку, словно играли в жмурки. Я протер глаза, снова стал перечитывать задачу, но буквы не успокоились, а даже почему-то стали подпрыгивать, будто затеяли игру в чехарду.
– Ну, что там у тебя не получается? – спросила мама.
– Да вот, – говорю, – задача попалась какая-то скверная.
– Скверных задач не бывает. Это ученики бывают скверные.
Мама прочитала задачу и принялась объяснять, но я почему-то ничего не мог понять.
– Неужели вам в школе не объясняли, как делать такие задачи? – спросил папа.
– Нет, – говорю, – не объясняли.
– Удивительно! Когда я учился, нам учительница всегда объясняла сначала в классе, а потом задавала на дом.
– Так то, – говорю, – когда ты учился, а нам Ольга Николаевна ничего не объясняет. Все только спрашивает и спрашивает.
– Не понимаю, как это вас учат!
– Вот так, – говорю, – и учат.
– А что вам рассказывала Ольга Николаевна в классе?
– Ничего не рассказывала. Мы решали на доске задачу.
– Ну-ка, покажи, какую задачу.
Я показал задачу, которую списал в тетрадь.
– Ну вот, а ты тут еще на учительницу наговариваешь! – воскликнул папа. – Это ведь такая же задача, как на дом задана! Значит, учительница объясняла, как решать такие задачи.
– Где же, – говорю, – такая? Там про плотников, которые строили дом, а здесь про каких-то жестянщиков, которые делали ведра.
– Эх, ты! – говорит папа. – В той задаче нужно было узнать, во сколько дней двадцать пять плотников построят восемь домов, а в этой нужно узнать, во сколько шесть жестянщиков сделают тридцать шесть ведер. Обе задачи решаются одинаково.
Папа принялся объяснять, как нужно сделать задачу, но у меня уже все в голове спуталось, и я совсем ничего не понимал.
– Экий ты бестолковый! – рассердился наконец папа. – Ну разве можно таким бестолковым быть!
Мой папа совсем не умеет объяснять задачи. Мама говорит, что у него нет никаких педагогических способностей, то есть он не годится в учителя. Первые полчаса он объясняет спокойно, а потом начинает нервничать, а как только он начинает нервничать, я совсем перестаю соображать и сижу на стуле, как деревянный чурбан.
– Но что же тут непонятного? – говорит папа. – Кажется, все понятно.
Когда папа видит, что на словах никак не может объяснить, он берет лист бумаги и начинает писать.
– Вот, – сказал он. – Ведь это все просто. Смотри, какой будет первый вопрос.
Он записал вопрос на бумажке и сделал решение.
– Это понятно тебе?
По правде сказать, мне совсем ничего не было понятно, но я до смерти уже хотел спать и поэтому сказал:
– Понятно.
– Ну вот, наконец-то! – обрадовался папа – Думать надо как следует, тогда все будет попятно. Он решил на бумажке второй вопрос:
– Понятно?
– Понятно, – говорю я.
– Ты скажи, если непонятно, я еще объясню.
– Нет, понятно, понятно.
Наконец он сделал последний вопрос. Я списал задачу начисто в тетрадку и спрятал в сумку.
– Кончил дело – гуляй смело, – сказала Лика.
– Ладно, я с тобой завтра поговорю! – проворчал я и пошел спать.
Глава третья
За лето нашу школу отремонтировали. Стены в классах заново побелили, и были они такие чистенькие, свежие, без единого пятнышка, просто любо посмотреть. Все было как новенькое. Приятно все-таки заниматься в таком классе! И светлей кажется, и привольней, и даже, как бы это сказать, на душе веселей.
И вот на следующий день, когда я пришел в класс, то увидел, что на стене рядом с доской нарисован углем морячок. Он был в полосатой тельняшке, брюки клеш развевались по ветру, на голове – бескозырка, во рту – трубка, и дым из нее кольцами поднимался кверху, как из пароходной трубы. У морячка был такой залихватский вид, что на него нельзя было без смеха смотреть.
– Это Игорь Грачев нарисовал, – сообщил мне Вася Ерохин. – Только, чур, не выдавать!
– Зачем же мне выдавать? – говорю я. Ребята сидели за партами, любовались морячком, посмеивались и отпускали разные шуточки:
– Морячок с нами будет учиться! Вот здорово! Перед самым звонком прибежал в класс Шишкин.
– Видел морячка? – говорю я и показываю на стену. Он взглянул на него.
– Это Игорь Грачев нарисовал, – сказал я. – Только не выдавать.
– Ну ладно, сам знаю! Ты по русскому упражнение сделал?
– Конечно, сделал, – ответил я. – Что же я, с несделанными уроками буду в класс приходить?
– А я, понимаешь, не сделал. Не успел, понимаешь. Дай списать.
– Когда же ты будешь списывать? – говорю я. – Скоро урок начнется.
– Ничего. Я во время урока спишу. Я дал ему тетрадку по русскому языку, и он начал списывать.
– Послушай, – говорит. – А зачем ты в слове «светлячок» приставку одной чертой подчеркнул? Корень одной чертой надо подчеркивать.
– Много ты понимаешь! – говорю я. – Это и есть корень!
– Что ты! «Свет» – корень? Разве корень бывает впереди слова? Где тогда, по-твоему, приставка?
– А приставки нет в этом слове.
– Разве так бывает, чтобы приставки не было?
– Конечно, бывает.
– То-то я ломал вчера голову: приставка есть, корень есть, а окончания не получается.
– Эх, ты! – говорю я. – Мы ведь это еще в третьем классе проходили.
– Да я уж не помню. Значит, у тебя тут все правильно? Я так и спишу.
Я хотел рассказать ему, что такое корень, приставка и окончание, но тут прозвонил звонок и в класс вошла Ольга Николаевна. Она сразу увидела на стене морячка, и лицо у нее сделалось строгое.
– Это что еще за художества? – спросила она и обвела весь класс взглядом. – Кто это нарисовал на стене? Все ребята молчали.
– Тот, кто испортил стену, должен встать и признаться, – сказала Ольга Николаевна.
Все сидели молча. Никто не вставал и не признавался. Брови у Ольги Николаевны нахмурились.
– Разве вы не знаете, что класс надо в чистоте держать? Что будет, если каждый станет рисовать на стенах? Самим ведь неприятно в грязи сидеть. Или, может быть, вам приятно?
– Нет, нет! – раздалось несколько нерешительных голосов.
– Кто же это сделал? Все молчали.
– Глеб Скамейкин, ты староста класса и должен знать, кто это сделал.
– Я не знаю, Ольга Николаевна. Когда я пришел, морячок уже был на стене.
– Удивительно! – сказала Ольга Николаевна. – Кто-нибудь да нарисовал же его. Вчера стена была чистая, я последней уходила из класса. Кто сегодня пришел в класс первым?
Никто из ребят не признавался. Каждый говорил, что он пришел, когда в классе было уже много ребят.
Пока шел разговор об этом, Шишкин старательно списывал упражнение в свою тетрадь. Кончил он тем, что посадил в моей тетради кляксу и отдал тетрадь мне.
– Что же это такое? – говорю я. – Брал тетрадь без кляксы, а отдаешь с кляксой!
– Я ведь не нарочно посадил кляксу.
– Какое мне дело, нарочно или не нарочно! Зачем мне в тетради клякса?
– Как же я отдам тебе тетрадь без кляксы, когда уже есть клякса? В другой раз будет без кляксы. – В какой, – говорю, – другой раз?
– Ну, в другой раз, когда буду списывать.
– Так ты что, – говорю, – каждый раз у меня собираешься списывать?
– Зачем каждый раз? Иногда только.
На этом разговор кончился, потому что как раз в это время Ольга Николаевна вызвала Шишкина к доске и велела решать задачу про маляров, которые красили в школе стены, и нужно было узнать, сколько школа израсходовала денег на окраску всех классов и коридоров.
«Ну, – думаю, – пропал бедный Шишкин! На доске задачу решать – это тебе не с чужой тетрадки списывать!»
К моему удивлению, Шишкин очень хорошо справился с задачей. Правда, решал он ее долго, до конца урока, потому что задача была длинная и довольно трудная.
Мы все, конечно, догадались, что Ольга Николаевна нарочно задала нам такую задачу, и чувствовали, что на этом дело не кончится. На последнем уроке к нам в класс пришел директор школы Игорь Александрович. С виду Игорь Александрович совсем не сердитый. Лицо у него всегда спокойное, голос тихий и даже какой-то добрый, но я лично всегда побаиваюсь Игоря Александровича, потому что он очень большой. Ростом он с моего папу, только еще повыше, пиджак у него широкий, просторный, застегивается на три пуговицы, а на носу очки.
Я думал, что Игорь Александрович раскричится на нас, но он спокойно рассказал нам, сколько государство тратит денег на обучение каждого ученика и как важно хорошо учиться и беречь школьное имущество и самоё школу. Он сказал, что тот, кто портит школьное имущество и стены, наносит ущерб народу, потому что все средства на школы дает народ. Под конец Игорь Александрович сказал:
– Тот, кто нарисовал на стенке, наверно, не хотел нанести ущерб школе. Если он чистосердечно признается, то докажет, что он человек честный и сделал это не подумавши.
На меня очень подействовало все, что сказал Игорь Александрович, и я думал, что Игорь Грачев тут же встанет и признается, что это сделал он, но Игорю, видно, вовсе не хотелось доказывать, что он честный человек, и он молча сидел за своей партой. Тогда Игорь Александрович сказал, что тому, кто разрисовал стену, наверно, стыдно признаться сейчас, но пусть он подумает над своим поступком, а потом наберется смелости и придет к нему в кабинет.
После уроков председатель совета нашего пионеротряда Толя Дёжкин подошел к Грачеву и сказал:
– Эх, ты! Кто тебя просил стену портить? Видишь, что вышло!
Игорь развел руками:
– Да я что? Я разве хотел?
– Зачем же нарисовал?
– Сам не знаю. Взял и нарисовал не подумавши.
– «Не подумавши»! Из-за тебя пятно на всем классе.
– Почему на всем классе?
– Потому что на каждого могут подумать.
– А может, это кто-нибудь из другого класса к нам забежал и нарисовал.
– Смотри, чтоб этого больше не было, – сказал Толя.
– Ладно, ребята, я больше не буду, я ведь так только – хотел попробовать, – оправдывался Игорь.
Он взял тряпку и принялся стирать морячка со стены, но от этого получилось только хуже. Морячок все-таки был виден, а вокруг него образовалось большущее грязное пятно. Тогда ребята отняли у Игоря тряпку и не позволили больше размазывать грязь по стене.
После школы мы снова пошли играть в футбол и играли опять до темноты, а когда пошли домой, Шишкин затащил меня к себе. Оказалось, что он живет на той же улице, что и я, в небольшом деревянном двухэтажном домике, совсем недалеко от нас. На нашей улице все дома большие, четырехэтажные и пятиэтажные, как наш. Я давно уже думал: что это за люди, которые живут в таком маленьком деревянном доме? А вот теперь, оказывается, здесь жил как раз Шишкин.
Мне не хотелось идти к нему, потому что уже было поздно, но он сказал:
– Понимаешь, меня дома станут ругать за то, что я так долго играл, а если ты придешь, меня не так будут ругать.
– Меня ведь тоже будут ругать, – говорю я.
– Ничего. Если хочешь, зайдем сначала ко мне, а потом вместе зайдем к тебе, вот и тебя не будут ругать и меня тоже.
– Ну хорошо, – согласился я.
Мы вошли в парадное, поднялись по скрипучей деревянной лестнице с щербатыми перилами, и Шишкин постучал в дверь, обитую черной клеенкой, из-под которой в некоторых местах виднелись клочья рыжего войлока.
– Что же это такое, Костя! Где ты пропадаешь так поздно? – спросила его мать, открывая нам дверь.
– Вот познакомься, мама, это мой школьный товарищ, Малеев. Мы с ним за одной партой сидим.
– Ну заходите, заходите, – сказала мать уже не таким строгим голосом.
Мы вошли в коридор.
– Батюшки! Где же вы извозились так? Вы только на себя посмотрите!
Я посмотрел на Шишкина. Лицо у него было все красное. По щекам и по лбу шли какие-то грязные разводы. Кончик носа был черный. Наверно, и я был не лучше, потому что мне попало мячом в лицо. Шишкин толкнул меня локтем:
– Пойдем умоемся, а то тебе достанется, если ты в таком виде домой явишься.
Мы вошли в комнату, и он познакомил меня со своей тетей:
– Тетя Зина, вот это мой школьный товарищ, Малеев. Мы в одном классе учимся.
Тетя Зина была совсем молодая, и я сначала даже принял ее за старшую сестру Шишкина, но она оказалась не сестра вовсе, а тетя. Она смотрела на меня с усмешкой. Наверно, я очень смешной был, потому что грязный. Шишкин толкнул меня в бок. Мы пошли к умывальнику и принялись умываться.
– Ты зверей любишь? – спрашивал меня Шишкин, пока я намыливал лицо мылом.
– Смотря каких, – говорю я. – Если таких, как тигры или крокодилы, то не люблю. Они кусаются.
– Да я не про таких зверей спрашиваю. Мышей любишь?
– Мышей, – говорю, – тоже не люблю. Они портят вещи: грызут все, что ни попадется.
– И ничего они не грызут. Что ты выдумываешь?
– Как – не грызут? Один раз они у меня даже книжку на полке изгрызли.
– Так ты, наверно, не кормил их?
– Вот еще! Стану я мышей кормить!
– А как же! Я каждый день их кормлю. Даже дом им выстроил.
– С ума, – говорю, – сошел! Кто же мышам дома строит?
– Надо же им где-нибудь жить. Вот пойдем посмотрим мышиный дом.
Мы кончили умываться и пошли на кухню. Там под столом стоял домик, склеенный из пустых спичечных коробков, со множеством окон и дверей. Какие-то маленькие белые зверушки то и дело вылезали из окон и дверей, ловко карабкались по стенам и снова залезали обратно в домик. На крыше домика была труба, а из трубы выглядывала точно такая же белая зверушка.
Я удивился.
– Что это за зверушки? – спрашиваю.
– Ну, мыши.
– Так мыши ведь серые, а эти какие-то белые.
– Ну, это и есть белые мыши. Что ты, никогда белых мышей не видел?
Шишкин поймал мышонка и дал мне подержать. Мышонок был белый-пребелый, как молоко, только хвост у него был длинный и розовый, как будто облезлый. Он спокойно сидел у меня на ладони и шевелил своим розовым носиком, как будто нюхал, чем пахнет воздух, а глаза у него были красные, точно коралловые бусинки.
– У нас в доме белые мыши не водятся, у нас только серые, – сказал я.
– Да они ведь в домах не водятся, – засмеялся Шишкин. – Их покупать надо. Я купил в зоомагазине четыре штуки, а теперь видишь, сколько их расплодилось. Хочешь, подарю тебе парочку?
– А чем их кормить?
– Да они всё едят. Крупой можно, хлебом, молоком.
– Ну ладно, – согласился я.
Шишкин разыскал где-то картонную коробочку, посадил в нее двух мышей и сунул коробку в карман.
– Я их сам понесу, а то ты, по неопытности, раздавишь, – сказал он.
Мы стали натягивать куртки, чтоб идти ко мне.
– Куда это ты снова собираешься? – спросила Костю мама.
– Я сейчас вернусь, только на минутку зайду к Вите, я обещал ему.
Мы вышли на улицу и через минуту уже были у меня. Мама увидела, что я не один пришел, и не стала бранить меня за то, что я поздно вернулся.
– Это мой школьный товарищ, Костя, – сказал я ей.
– Ты новичок, Костя? – спросила мама.
– Да, я только в этом году поступил.
– А до этого где учился?
– В Нальчике. Мы жили там, а потом тетя Зина окончила десятилетку и захотела поступить в театральное училище, тогда мы переехали сюда, потому что в Нальчике театрального училища нет.
– А где тебе больше нравится: здесь или в Нальчике?
– В Нальчике лучше, а здесь тоже хорошо. И еще мы жили в Краснозаводске, там тоже было хорошо.
– Значит, у тебя хороший характер, раз тебе везде хорошо.
– Нет, у меня плохой характер. Мама говорит, что я слабохарактерный и ничего не добьюсь в жизни.
– Почему же мама так говорит?
– Потому что я никогда вовремя уроков не делаю.
– Значит, ты такой, как наш Витя. Он тоже не любит делать вовремя уроки. Вам надо взяться вместе и переделать свой характер.
В это время пришла Лика, и я сказал:
– А это вот, познакомься, моя сестра Лика.
– Здравствуйте! – сказал Шишкин.
– Здравствуйте! – ответила Лика и стала разглядывать его, будто он был не простой мальчишка, а какая-нибудь картина на выставке.
– А у меня сестры нет, – сказал Шишкин. – И брата у меня нет. Никого у меня нет, я совсем одинокий.
– А вы хотели бы, чтоб у вас была сестра или брат? – спросила Лика.
– Хотел бы. Я делал бы для них игрушки, дарил бы им зверей, заботился бы о них. Мама говорит, что я беззаботный. А почему я беззаботный? Потому что мне не о ком заботиться.
– А вы о маме заботьтесь.
– Как же о ней заботиться? Она как уедет на работу, так ее ждешь, ждешь – вечером придет, а потом вдруг и вечером уедет.
– А кем ваша мама работает?
– Моя мама шофер, на автомобиле ездит.
– Ну, вы о себе заботьтесь, вашей маме было бы легче.
– Это я знаю, – ответил Шишкин.
– А вы свою куртку нашли? – спросила Лика.
– Какую куртку? Ах, да! Нашел, конечно, нашел. Она так и лежала на футбольном поле, где я оставил.
– Вы так когда-нибудь простудитесь, – сказала Лика.
– Нет, что вы!
– Конечно, простудитесь. Забудете зимой где-нибудь шапку или пальто.
– Нет, пальто я не забуду… Вы мышей любите?
– Мышей… м‑м-м, – замялась Лика.
– Хотите, подарю вам парочку?
– Нет, что вы!
– Они очень хорошие, – сказал Шишкин и вынул из кармана коробку с белыми мышами.
– Ой, какие хорошенькие! – завизжала Лика.
– Что ж ты ей моих мышей даришь? – испугался я. – Сначала подарил мне, а теперь ей!
– Да я ей только показываю этих, а подарю других, у меня ведь еще есть, – сказал Шишкин. – Или, если хочешь, подарю ей этих, а тебе других подарю.
– Нет, нет, – сказала Лика, – пусть эти Витины будут.
– Ну хорошо, я вам завтра других принесу, а этих вы только посмотрите.
Лика протянула руки к мышам:
– А они не кусаются?
– Что вы! Совсем ручные.
Когда Шишкин ушел, мы с Ликой взяли коробку из-под печенья, прорезали в ней окна и дверцы и посадили в нее мышей. Мышки выглядывали из окон, и на них было очень интересно смотреть.
* * *
За уроки я опять принялся поздно. По своему обыкновению, я сделал сначала то, что было полегче, а после всего принялся делать задачу по арифметике. Задача опять оказалась трудная. Поэтому я закрыл задачник, сложил все книжки в сумку и решил на другой день списать задачу у кого-нибудь из товарищей. Если бы я стал решать задачу сам, то мама увидела бы, что я до сих пор не сделал уроки, и стала бы упрекать меня, что я откладываю уроки на ночь, папа взялся бы объяснять мне задачу, а зачем мне отрывать его от работы! Пусть лучше чертит чертежи для своего шлифовального прибора или обдумывает, как лучше сделать какую-нибудь модель. Для него ведь все это очень важно.
Пока я делал уроки, Лика положила в мышиный домик ваты, чтобы мышки могли устроить себе гнездышко, насыпала им крупы, накрошила хлеба и поставила маленькое блюдечко с молоком. Если заглянуть в окошечко, можно видеть, как мышки сидят в домике и жуют крупу. Иногда какая-нибудь мышка садилась на задние лапки, а передними начинала умываться. Вот умора! Она так быстро терла лапками свою рожицу, что нельзя было без смеха смотреть. Лика все время сидела перед домиком, заглядывала в окно и смеялась.
– Какой у тебя хороший товарищ, Витя! – сказала она, когда я подошел посмотреть.
– Это Костя-то? – говорю я.
– Ну да.
– Чем же он такой хороший?
– Вежливый. Так хорошо разговаривает. Даже со мной поговорил.
– Отчего же ему не поговорить с тобой?
– Ну, я ведь девчонка.
– Что ж, если девчонка, так и разговаривать с ней нельзя?
– А другие ребята не разговаривают. Гордятся, наверно. Ты с ним дружи.
Я хотел ей сказать, что Шишкин не такой уж хороший, что он уроки списывает и мне в тетради даже посадил кляксу, но я почему-то сказал:
– Будто я сам не знаю, что он хороший! У нас в классе все ребята хорошие.
Глава четвертая
Прошло дня три, или четыре, или, может быть, пять, сейчас уже не помню точно, и вот один раз на уроке наш редактор Сережа Букатин сказал:
– Ольга Николаевна, у нас в редколлегии никто не умеет хорошо рисовать. В прошлом году всегда рисовал Федя Рыбкин, а теперь совсем некому, и стенгазета получается неинтересная. Надо нам выбрать художника.
– Художником надо выбирать того, кто умеет хорошо рисовать, – сказала Ольга Николаевна. – Давайте сделаем так: пусть каждый принесет завтра свои рисунки. Вот мы и выберем, кто лучше рисует.
– А у кого нет рисунков? – спросили ребята.
– Ну, нарисуйте сегодня, приготовьте хоть по рисунку. Это ведь нетрудно.
– Конечно, – согласились мы все.
На другой день все принесли рисунки. Кто принес старые, кто нарисовал новые; у некоторых были целые пачки рисунков, а Грачев принес целый альбом. Я тоже принес несколько. картинок. И вот мы разложили все свои рисунки на партах, а Ольга Николаевна подходила ко всем и рассматривала рисунки. Наконец она подошла к Игорю Грачеву и стала смотреть его альбом. У него там были нарисованы всё моря, корабли, пароходы, подводные лодки, дредноуты.
– Игорь Грачев лучше всех рисует, – сказала она. – Вот ты и будешь художником.
Игорь улыбался от радости. Ольга Николаевна перевернула страничку и увидела, что там у него нарисован моряк в тельняшке, с трубкой во рту, точь-в-точь такой же, как на стене был. Ольга Николаевна нахмурилась и пристально поглядела на Игоря. Игорь заволновался, покраснел и тут же сказал:
– Это я нарисовал морячка на стенке.
– Ну вот, а когда спрашивали, так ты не признавался! Нехорошо, Игорь, нечестно! Зачем ты это сделал?
– Сам не знаю, Ольга Николаевна! Как-то так, нечаянно. Я не подумал.
– Ну хорошо, что хоть теперь признался. После уроков пойди к директору и попроси прощения.
После уроков Игорь пошел к директору и стал просить у него прощения. Игорь Александрович сказал:
– Государство уже израсходовало на ремонт школы много денег. Второй раз ремонтировать некому. Иди домой, пообедаешь и придешь.
После обеда Игорь пришел в школу, ему дали ведро с краской и кисточку, и он побелил стену так, что морячка не стало видно.
Мы думали, что Ольга Николаевна теперь уже не разрешит ему быть художником, но Ольга Николаевна сказала:
– Лучше быть художником в стенгазете, чем портить стены.
Тогда мы выбрали его в редколлегию художником, и все были рады, и я был рад, только мне-то, если сказать по правде, радоваться не следовало, и я расскажу почему.
По шишкинскому примеру, я совсем перестал дома делать задачи и все норовил списывать их у ребят. Вот точно, как в пословице говорится: «С кем поведешься, от того и наберешься».
«Зачем мне ломать голову над этими задачами? – думал я. – Все равно я их не понимаю. Лучше я спишу, и дело с концом. И быстрей, и дома никто не сердится, что я не справляюсь с задачами».
Мне всегда удавалось списать задачу у кого-нибудь из ребят, но наш председатель совета отряда, Толя Дёжкин, упрекал меня.
– Ты ведь никогда не научишься делать задачи, если все время будешь списывать у других! – говорил он.
– А мне и не нужно, – отвечал я. – Я к арифметике неспособный. Авось как-нибудь и без арифметики проживу.
Конечно, списать домашнее задание было легко, а вот когда вызовут в классе, то тут только одна надежда на подсказку. Еще спасибо, что хоть ребята подсказывали. Только Глеб Скамейкин с тех пор, как сказал, что будет бороться с подсказкой, все думал и думал и наконец придумал такую вещь: подговорил ребят, которые выпускали стенгазету, нарисовать на меня карикатуру. И вот в один прекрасный день в стенгазете на меня появилась карикатура с длинными ушами, то есть был нарисован я возле доски, вроде я решаю задачу, а уши у меня длинные-предлинные. Это, значит, для того, чтобы лучше слышать, что мне подсказывают. И еще какие-то стишки противные под этой карикатурой были подписаны:
Витя наш подсказку любит,
Витя в дружбе с ней живет,
Но подсказка Витю губит
И до двойки доведет.
Или что-то вроде этого, не помню точно. В общем, чепуха на постном масле. Я, конечно, страшно рассердился и сразу догадался, что это Игорь Грачев нарисовал, потому что пока его в стенгазете не было, то и никаких карикатур не было. Я подошел к нему и говорю:
– Сними сейчас же эту карикатуру, а то худо будет! Он говорит:
– Я не имею права снимать. Я ведь только художник. Мне сказали, я и нарисовал, а снимать не мое дело.
– Чье же это дело?
– Это дело редактора. Он у нас всем распоряжается. Тогда я говорю Сереже Букатину:
– А, значит, это твоя работа? На себя небось не поместил карикатуры, а на меня поместил!
– Что же ты думаешь, я сам помещаю, на кого хочу? У нас редколлегия. Мы всё вместе решаем Глеб Скамейкин написал на тебя стихи и сказал, чтоб карикатуру нарисовали, потому что надо с подсказкой бороться. Мы на совете отряда решили, чтобы подсказки не было.
Тогда я бросился к Глебу Скамейкину.
– Снимай, – говорю, – сейчас же, а то из тебя получится бараний рог!
– Как это – бараний рог? – не понял он.
– В бараний рог тебя согну и в порошок изотру!
– Подумаешь! – говорит Глебка. – Не очень-то тебя испугались!
– Ну, тогда я сам из газеты карикатуру вырву, если не испугались.
– Вырывать не имеешь права, – говорит Толя Дёжкин, – Ведь это правда. Если б на тебя написали неправду, то и тогда не имеешь права вырывать, а должен написать опровержение.
– А, – говорю, – опровержение? Сейчас вам будет опровержение!
Все ребята подходили к стенгазете, любовались на карикатуру и смеялись. Но я решил не оставлять этого дела так и сел писать опровержение. Только у меня ничего не вышло, потому что я не знал, как его написать. Тогда я пошел к нашему пионервожатому Володе, рассказал ему обо всем и стал спрашивать, как написать опровержение.
– Хорошо, я тебя научу, – сказал Володя. – Напиши, что ты исправишься и станешь учиться лучше, так что не нужна будет подсказка. Твою заметку поместят в стенгазете, а я скажу, чтобы карикатуру сняли.
Я так и сделал. Написал в газету заметку, в которой давал обещание начать учиться лучше и больше не надеяться на подсказку.
На другой день карикатуру сняли, а мою заметку напечатали на самом видном месте. Я был очень рад и даже на самом деле собирался начать учиться лучше, но все почему-то откладывал, а через несколько дней у нас была письменная работа по арифметике и я получил двойку. Конечно, не я один получил двойку. У Саши Медведкина тоже была двойка, так что мы вдвоем отличились. Ольга Николаевна записала нам эти двойки в дневники и сказала, чтоб в дневниках была подпись родителей.
Печальный возвращался я в этот день домой и все думал, как избавиться от двойки или как сказать маме, чтоб она не очень сердилась.
– Ты сделай так, как делал наш Митя Круглов, – сказал мне по дороге Шишкин.
– Кто это Митя Круглов?
– А это был у нас такой ученик, когда я учился в Нальчике.
– Как же он делал?
– А он так: придет домой, получив двойку, и ничего не говорит. Сидит с унылым видом и молчит. Час молчит, два молчит и никуда гулять не идет. Мать спрашивает:
«Что это с тобой сегодня?»
«Ничего».
«Чего же ты такой скучный сидишь?»
«Так просто».
«Небось натворил в школе чего-нибудь?»
«Ничего я не натворил».
«Подрался с кем-нибудь?»
«Нет».
«Стекло в школе расшиб?»
«Нет».
«Странно!» – говорит мать.
За обедом сидит и ничего не ест.
«Почему ты ничего не ешь?»
«Не хочется».
«Аппетита нет?»
«Нет».
«Ну пойди погуляй, аппетит и появится».
«Не хочется».
«Чего же тебе хочется?»
«Ничего».
«Может быть, ты больной»
«Нет».
Мать потрогает ему лоб, поставит градусник. Потом говорит:
«Температура нормальная. Что же с тобой, наконец? С ума ты меня сведешь!»
«Я двойку по арифметике получил».
«Тьфу! – говорит мать. – Так ты из-за двойки всю эту комедию выдумал?»
«Ну да».
«Ты бы лучше сел да учился, вместо того чтоб комедию играть. Двойки и не было бы», – ответит мать.
И больше ничего ему не скажет. А Круглову только это и надо.
– Ну хорошо, – говорю я. – Один раз он так сделает, а в следующий раз мать ведь сразу догадается, что он получил двойку.
– А в следующий раз он что-нибудь другое придумает. Например, приходит и говорит матери:
«Знаешь, у нас Петров сегодня получил двойку».
Вот мать и начнет этого Петрова пробирать:
«И такой он и сякой. Родители его стараются, чтоб из него человек вышел, а он не учится, двойки получает…»
И так далее. Как только мать умолкает, он говорит:
«И Иванов у нас сегодня получил двойку».
Вот мать и начнет отделывать Иванова:
«Такой-сякой, не хочет учиться, государство на него даром деньги тратит!..»
А Круглов подождет, пока мать все выскажет, и снова говорит:
«Гаврилову сегодня тоже двойку поставили».
Вот мать и начнет отчитывать Гаврилова, только бранит его уже меньше. Круглов, как только увидит, что мать уже устала браниться, возьмет и скажет:
«У нас сегодня просто день такой несчастливый. Мне тоже двойку поставили».
Ну, мать ему только и скажет:
«Болван!»
И на этом конец.
– Видать, этот Круглов у вас был очень умный, – сказал я.
– Да, – говорит Шишкин, – очень умный. Он часто получал двойки и каждый раз выдумывал разные истории, чтоб мать не бранила слишком строго.
Я вернулся домой и решил сделать так, как этот Митя Круглов: сел сразу на стул, свесил голову и скорчил унылую-преунылую физиономию. Мама это сразу заметила и спрашивает:
– Что с тобой? Двойку небось получил?
– Получил, – говорю.
Вот тут-то она и начала меня пробирать.
Но об этом рассказывать неинтересно.
На следующий день Шишкин тоже получил двойку, по русскому языку, и была ему за это дома головомойка, а еще через день на нас обоих опять появилась в газете карикатура. Вроде как будто мы с Шишкиным идем по улице, а за нами следом бегут двойки на ножках.
Я сразу разозлился и говорю Сереже Букатину:
– Что это за безобразие! Когда это наконец прекратится?
– Чего ты кипятишься? – спрашивает Сережа. – Это ведь правда, что вы получили двойки.
– Будто мы одни получили! Саша Медведкин тоже получил двойку. А где он у вас?
– Этого я не знаю. Мы сказали Игорю, чтоб он всех троих нарисовал, а он нарисовал почему-то двоих.
– Я и хотел нарисовать троих, – сказал Игорь, – да все трое у меня не поместились. Вот я и нарисовал только двоих. В следующий раз третьего нарисую.
– Все равно, – говорю я. – Я этого дела так не оставлю. Я напишу опровержение! Говорю Шишкину:
– Давай опровержение писать.
– А как это?
– Очень просто: нужно написать в стенгазету обещание, что мы будем учиться лучше. Меня так в прошлый раз научил Володя.
– Ну ладно, – согласился Шишкин. – Ты пиши, а я потом у тебя спишу.
Я сел и написал обещание учиться лучше и никогда больше не получать двоек. Шишкин целиком списал у меня это обещание и еще от себя прибавил, что будет учиться не ниже чем на четверку.
– Это, – говорит, – чтоб внушительней было.
Мы отдали обе заметки Сереже Букатину, и я сказал:
– Вот, можешь снимать карикатуру, а заметки наши наклей на самом видном месте. Он сказал:
– Хорошо.
На другой день, когда мы пришли в школу, то увидели, что карикатура висит на месте, а наших обещаний нет. Я тут же бросился к Сереже. Он говорит:
– Мы твое обещание обсудили на редколлегии и решили пока не помещать в газете, потому что ты уже раз писал и давал обещание учиться лучше, а сам не учишься, даже получил двойку.
– Все равно, – говорю я. – Не хотите помещать заметку – не надо, а карикатуру вы обязаны снять.
– Ничего, – говорит, – мы не обязаны. Если ты воображаешь, что можно каждый раз давать обещания и не выполнять их, то ты ошибаешься.
Тут Шишкин не вытерпел:
– Я ведь еще ни разу не давал обещания. Почему вы мою заметку не поместили?
– Твою заметку мы поместим в следующем номере.
– А пока выйдет следующий номер, я так и буду висеть?
– Будешь висеть.
– Ладно, – говорит Шишкин.
Но я решил не успокаиваться на достигнутом. На следующей переменке я пошел к Володе и рассказал ему обо всем.
Он сказал:
– Я поговорю с ребятами, чтоб они поскорее выпустили новую стенгазету и поместили обе ваши статьи. Скоро у нас будет собрание об успеваемости, и ваши статьи как раз ко времени выйдут.
– Будто нельзя сейчас карикатуру вырвать, а на ее место наклеить заметки? – спрашиваю я.
– Это не полагается, – ответил Володя.
– Почему же в прошлый раз так сделали?
– Ну, в прошлый раз думали, что ты исправишься, и сделали в виде исключения. Но нельзя же каждый раз портить стенную газету. Ведь все газеты у нас сохраняются. По ним потом можно будет узнать, как работал класс, как учились ученики. Может быть, кто-нибудь из учеников, когда вырастет, станет известным мастером, знаменитым новатором, летчиком или ученым. Можно будет просмотреть стенгазеты и узнать, как он учился.
«Вот так штука! – подумал я. – А вдруг, когда я вырасту и сделаюсь знаменитым путешественником или летчиком (я уже давно решил стать знаменитым летчиком или путешественником, вдруг тогда кто-нибудь увидит эту старую газету и скажет: „Братцы, да ведь он в школе получал двойки!“»
От этой мысли настроение у меня испортилось на целый час, и я не стал больше спорить с Володей. Только потом я понемногу успокоился и решил, что, может быть, пока вырасту, газета куда-нибудь затеряется на мое счастье, и это спасет меня от позора.
Глава пятая
Карикатура наша провисела в газете целую неделю, и только за день до общего собрания вышла новая стенгазета, в которой уже карикатуры не было и появились обе наши заметки: моя и шишкинская. Были там, конечно, и другие заметки, только я сейчас уже не помню про что.
Володя сказал, чтоб мы все подготовились к общему собранию и обсудили вопрос об успеваемости каждого ученика. На большой перемене наш звеньевой Юра Касаткин собрал нас, и мы стали говорить о нашей успеваемости. Говорить тут долго было не о чем. Все сказали, чтоб мы с Шишкиным свои двойки исправили в самое короткое время.
Ну, мы, конечно, согласились. Что ж, разве нам самим интересно с двойками ходить?
На другой день у нас было общее собрание класса.
Ольга Николаевна сделала сообщение об успеваемости. Она рассказала, кто как учится в классе, кому на что надо обратить внимание. Тут не только двоечникам досталось, но даже и троечникам, потому что тот, кто учится на тройку, легко может скатиться к двойке.
Потом Ольга Николаевна сказала, что дисциплина у нас еще плохая – в классе бывает шумно, ребята подсказывают друг другу.
Мы стали высказываться. То есть это только я так говорю – «мы», на самом деле я не высказывался, потому что мне с двойкой нечего было лезть вперед, а надо было сидеть в тени.
Первым выступил Глеб Скамейкин. Он сказал, что во всем виновата подсказка. Это у него вроде болезнь такая – «подсказка». Он сказал, что если б никто не подсказывал, то и дисциплина была бы лучше и никто не надеялся бы на подсказку, а сам бы взялся за ум и учился бы лучше.
– Теперь я нарочно буду подсказывать неправильно, чтоб никто не надеялся на подсказку, – сказал Глеб Скамейкин.
– Это не по-товарищески, – сказал Вася Ерохин.
– А вообще подсказывать по-товарищески?
– Тоже не по-товарищески. Товарищу надо помочь, если он не понимает, а от подсказки вред.
– Так уж сколько говорилось об этом! Все равно подсказывают!
– Ну, надо выводить на чистую воду тех, кто подсказывает.
– Как же их выводить?
– Надо про них в стенгазету писать.
– Правильно! – сказал Глеб. – Мы начнем кампанию в стенгазете против подсказки.
Наш звеньевой Юра Касаткин сказал, что все наше звено решило учиться совсем без двоек, а ребята из первого и второго звена сказали, что обещают учиться только на пятерки и четверки.
Ольга Николаевна стала объяснять нам, что, для того чтобы успешно учиться, надо правильно распределять свой день. Надо пораньше ложиться спать и пораньше вставать. Утром делать зарядку, почаще бывать на свежем воздухе. Уроки нужно делать не сейчас же после школы, а сначала часа полтора-два отдохнуть. (Вот как раз то, что я говорил Лике.) Уроки обязательно делать днем. Поздно вечером заниматься вредно, так как мозг к этому времени уже устает и занятия не будут успешными. Сначала надо делать уроки, которые потрудней, а потом те, что полегче.
Слава Ведерников сказал:
– Ольга Николаевна, я понимаю, что после школы нужно отдохнуть часа два, а вот как отдыхать? Я не умею так просто сидеть и отдыхать. От такого отдыха на меня нападает тоска.
– Отдыхать – это вовсе не значит, что надо сидеть сложа руки. Можно, например, пойти погулять, поиграть, чем-нибудь заняться.
– А в футбол можно играть? – спросил я.
– Очень хороший отдых – игра в футбол, – сказала Ольга Николаевна, – только не надо, конечно, играть весь день. Если поиграешь часок, то очень хорошо отдохнешь и учиться будешь лучше.
– А вот скоро начнется дождливая погода, – сказал Шишкин, – футбольное поле от дождя раскиснет. Где мы тогда будем играть?
– Ничего, ребята, – ответил Володя. – Скоро мы оборудуем спортивный зал в школе, можно будет даже зимой играть в баскетбол.
– Баскетбол! – воскликнул Шишкин. – Вот здорово! Чур, я буду капитаном команды! Я уже был раз капитаном баскетбольной команды, честное слово!
– Ты вот сначала подтянись по русскому языку, – сказал Володя.
– А я что? Я ничего… Я подтянусь, – сказал Шишкин. На этом общее собрание закончилось.
– Эх, и оплошали же вы, ребята! – сказал Володя, когда все разошлись и осталось только наше звено.
– А что? – спрашиваем мы.
– Как «что»! Взялись учиться без двоек, а все остальные звенья обещают учиться только на четверки и пятерки.
– А чем мы хуже других? – говорит Леня Астафьев. – Мы тоже можем на пятерки и четверки.
– Подумаешь! – говорит Ваня Пахомов. – Ничем они не лучше нас.
– Ребята, давайте и мы возьмемся, – говорит Вася Ерохин. – Вот даю честное слово, что буду учиться не ниже чем на четверку. Мы не хуже других.
Тут и меня подхватило.
– Верно! – говорю. – Я тоже берусь! До сих пор я не брался как следует, а теперь возьмусь, вот увидите. Мне, знаете, стоит только начать.
– Стоит только начать, а потом будешь плакать да кончать, – сказал Шишкин.
– А ты что, не хочешь? – спросил Володя.
– Я не берусь на четверки, – сказал Шишкин. – То есть я берусь по всем предметам, а по русскому только на тройку.
– Ты что еще выдумал! – говорит Юра. – Весь класс берется, а он не берется! Подумаешь, какой умник нашелся!
– Как же я могу браться? У меня по русскому никогда лучшей отметки, чем тройка, не было. Тройка – и то хорошо.
– Послушай, Шишкин, почему ты отказываешься? – сказал Володя. – Ты ведь уже дал обещание учиться по всем предметам не ниже чем на четверку.
– Когда я дал обещание?
– А вот, это твоя заметка в стенгазете? – спросил Володя и показал газету, где были напечатаны наши обещания.
– Верно! – говорит Шишкин. – А я и забыл уже.
– Ну, так как же теперь, берешься?
– Что ж делать, ладно, берусь, – согласился Шишкин.
– Ура! – закричали ребята. – Молодец, Шишкин! Не подвел нас! Теперь все вместе будем бороться за честь своего класса.
Шишкин все-таки был недоволен и по дороге домой даже не хотел разговаривать со мной: дулся на меня за то, что я подговорил его написать в газету заметку.
Глава шестая
Не знаю, как Шишкин, а я решил сразу взяться за дело. Самое главное, подумал я, это режим. Спать буду ложиться пораньше, часов в десять, как Ольга Николаевна говорила. Вставать тоже буду пораньше и повторять перед школой уроки. После школы буду играть часа полтора в футбол, а потом на свежую голову буду делать уроки. После уроков буду заниматься чем захочется: или с ребятами играть, или книжки читать, до тех пор пока не придет время ложиться спать.
Так, значит, я подумал и пошел играть в футбол, перед тем как делать уроки. Я твердо решил играть не больше чем полтора часа, от силы – два, но, как только я попал на футбольное поле, у меня все из головы вылетело, и я очнулся, когда уже совсем наступил вечер. Уроки я опять стал делать поздно, когда голова уже плохо соображала, и дал сам себе обещание, что на следующий день не буду так долго играть. Но на следующий день повторилась та же история. Пока мы играли, я все время думал: «Вот забьем еще один гол, и я пойду домой», но почему-то так получалось, что, когда мы забивали гол, я решал, что пойду домой, когда мы еще один гол забьем. Так и тянулось до самого вечера. Тогда я сказал сам себе: «Стоп! У меня что-то не то получается!» И стал думать, почему же у меня так получается. Вот я думал, думал, и наконец мне стало ясно, что у меня совсем нет воли. То есть у меня воля есть, только она не сильная, а совсем-совсем слабенькая воля. Если мне надо что-нибудь делать, то я никак не могу заставить себя это делать, а если мне не надо чего-нибудь делать, то я никак не могу заставить себя этого не делать. Вот, например, если я начну читать какую-нибудь интересную книжку, то читаю и читаю и никак не могу оторваться. Мне, например, надо делать уроки или пора уже ложиться спать, а я все читаю. Мама говорит, чтоб я шел спать, папа говорит, что пора уже спать, а я не слушаюсь, пока нарочно не потушат свет, чтоб мне нельзя уже было больше читать. И вот то же самое с этим футболом. Не хватает у меня силы воли кончить вовремя игру, да и только!
Когда я все это обдумал, то даже сам удивился. Я воображал, будто я человек с очень сильной волей и твердым характером, а оказалось, что я человек безвольный, слабохарактерный, вроде Шишкина. Я решил, что мне надо развивать сильную волю. Что нужно делать для этого? Для этого я буду делать не то, что хочется, а то, чего вовсе не хочется. Не хочется утром делать зарядку – а я буду делать. Хочется идти играть в футбол – а я не пойду. Хочется почитать интересную книжку – а я не стану. Начать решил сразу, с этого же дня. В этот день мама испекла к чаю мое самое любимое пирожное. Мне достался самый вкусный кусок – из серединки. Но я решил, что раз мне хочется съесть это пирожное, то я не буду его есть. Чай я попил просто с хлебом, а пирожное так и осталось.
– Почему же ты не стал есть пирожное? – спросила мама.
– Пирожное будет лежать здесь до послезавтрашнего вечера – ровно два дня, – сказал я. – Послезавтра вечером я его съем.
– Что это ты, зарок дал? – говорит мама.
– Да, – говорю, – зарок. Если не съем раньше назначенного срока это пирожное, значит, у меня сильная воля.
– А если съешь? – спрашивает Лика.
– Ну, если съем, тогда, значит, слабая. Будто сама не понимаешь!
– Мне кажется, ты не выдержишь, – сказала Лика.
– А вот посмотрим.
Наутро я встал – мне очень не хотелось делать зарядку, но я все-таки сделал, потом пошел под кран обливаться холодной водой, потому что обливаться мне тоже не хотелось. Потом позавтракал и пошел в школу, а пирожное так и осталось лежать на тарелочке. Когда я пришел, оно лежало по-прежнему, только мама накрыла его стеклянной крышкой от сахарницы, чтоб оно не засохло до завтрашнего дня. Я открыл его и посмотрел, но оно ничуть даже еще не начало сохнуть. Мне очень захотелось тут же его прикончить, но я поборол в себе это желание.
В этот день я решил в футбол не играть, а просто отдохнуть часика полтора и тогда уже взяться за уроки. И вот после обеда я стал отдыхать. Но как отдыхать? Просто так отдыхать ведь не станешь. Отдых – это игра или какое-нибудь интересное занятие. «Чем же заняться? – думаю. – Во что поиграть?» Потом думаю: «Пойду-ка поиграю с ребятами в футбол».
Не успел я это подумать, как ноги сами вынесли меня на улицу, а пирожное так и осталось лежать на тарелке.
Иду я по улице и вдруг думаю: «Стоп! Что же это я делаю? Раз мне хочется играть в футбол, то не нужно. Разве так воспитывают сильную волю?» Я тут же хотел повернуть назад, но подумал: «Пойду и посмотрю, как ребята играют, а сам играть не буду». Пришел, смотрю, а там уже игра в самом разгаре. Шишкин увидел меня, кричит:
– Где же ты ходишь? Нам уже десять голов насажали! Скорей выручай!
И тут уж я сам не заметил, как ввязался в игру.
Домой снова вернулся поздно и думаю:
«Эх, безвольный я человек! С утра так хорошо начал, а потом из-за этого футбола все испортил!»
Смотрю – пирожное лежит на тарелке. Я взял его и съел.
«Все равно, – думаю, – у меня никакой силы воли нет».
Лика пришла, смотрит – тарелка пустая.
– Не выдержал? – спрашивает.
– Чего «не выдержал»?
– Съел пирожное?
– А тебе что? Съел, ну и съел. Не твое ведь я пирожное съел!
– Чего же ты сердишься? Я ничего не говорю. Ты и то слишком долго терпел. У тебя большая сила воли. А вот у меня никакой силы воли нет.
– Почему же это у тебя нет?
– Сама не знаю. Если б ты не съел до завтра это пирожное, то я сама бы, наверно, его съела.
– Значит, ты считаешь, что у меня есть сила воли?
– Конечно, есть.
Я немножко утешился и решил с завтрашнего дня снова приняться за воспитание воли, несмотря на сегодняшнюю неудачу. Не знаю, какой бы получился из этого результат, если бы погода была хорошая, но как раз в этот день с утра зарядил дождь, футбольное поле, как и ожидал Шишкин, раскисло и играть было нельзя. Раз играть было нельзя, то меня и не тянуло. Удивительно, как человек устроен! Вот бывает: сидишь дома, а ребята в это время в футбол играют; ты, значит, сидишь и думаешь: «Бедный я, бедный, несчастный-разнесчастный! Все ребята играют, а я дома сижу!» А вот если сидишь дома и знаешь, что все остальные ребята тоже сидят по домам и никто не играет, то ничего такого не думаешь.
Так и на этот раз. За окном моросил мелкий осенний дождь, а я сидел себе дома и спокойно занимался. И очень успешно у меня занятия шли, пока я не дошел до арифметики. Но тут я решил, что не стоит мне самому особенно ломать голову, а лучше просто пойти к кому-нибудь из ребят, чтоб мне помогли арифметику сделать.
Я быстро собрался и пошел к Алику Сорокину. Он в нашем звене лучше всех по арифметике учится. У него всегда по арифметике пять.
Прихожу я к нему, а он сидит за столом и сам с собой играет в шахматы.
– Вот хорошо, что ты пришел! – говорит. – Сейчас мы с тобой сыграем в шахматы.
– Да я не за тем пришел, – говорю я. – Вот помоги мне лучше арифметику сделать.
– Ага, хорошо, сейчас. Только знаешь что? Арифметику мы успеем сделать. Я тебе все объясню в два счета. Давай сначала сыграем в шахматы. Тебе все равно надо научиться играть в шахматы, потому что шахматы развивают способности к математике.
– А ты не врешь? – говорю.
– Нет, честное слово! Ты думаешь, почему я хорошо по арифметике учусь? Потому что играю в шахматы.
– Ну, если так, тогда ладно, – согласился я. Расставили мы фигуры и стали играть. Только я тут же увидел, что играть с ним совсем невозможно. Он не мог спокойно относиться к игре, и, если я делал неверный ход, он почему-то сердился и все время кричал на меня:
– Ну кто так играет? Куда ты полез? Разве так ходят? Тьфу! Что это за ход?
– Почему же это не ход? – спрашиваю я.
– Да потому, что я съем твою пешку.
– Ну и ешь, – говорю, – на здоровье, только не кричи, пожалуйста!
– Как же на тебя не кричать, когда ты так глупо ходишь!
– Тебе же, – говорю, – лучше: скорее выиграешь.
– Мне, – говорит, – интересно у умного человека выиграть, а не у такого игрока, как ты.
– Значит, по-твоему, я не умный?
– Да, не очень.
Так он оскорблял меня на каждом шагу, пока не выиграл партию, и говорит:
– Давай еще.
А я и сам уже раззадорился и очень хотел обыграть его, чтоб он не задавался.
– Давай, – говорю, – только так, чтобы без крика, а если будешь кричать на меня, брошу все и уйду.
Стали мы снова играть. На этот раз он не кричал, но и молча играть не умел, видно, и поэтому все время болтал, как попугай, и строил насмешки:
– Ага! Так вот как вы пошли! Ага! Угу! Вот какие вы теперь умные стали! Скажите пожалуйста!
Просто противно было слушать.
Я проиграл и эту партию и еще не помню сколько. Потом мы стали заниматься по арифметике, но и тут проявился его скверный характер. Ничего-то он спокойно не мог объяснить:
– Да ведь это просто, ну как ты не понимаешь! Да это ведь малые ребята понимают! Что ж тут непонятного? Эх, ты! Вычитаемого от уменьшаемого не может отличить! Мы это еще в третьем классе проходили. Ты что, с луны, что ли, свалился?
– Если тебе трудно объяснить просто, то я к кому-нибудь другому могу пойти, – говорю я.
– Да я ведь объясняю просто, а ты не понимаешь!
– Где же, – говорю, – просто? Объясняй, что надо. Какое тебе дело, с луны я свалился или не с луны!
– Ну ладно, ты не сердись, я буду просто. Но просто у него никак не выходило. Пробился я с ним до вечера и все-таки мало что понял. Но обиднее всего было то, что я ни разу не обыграл его в шахматы. Если б он не так задавался, то мне и обидно бы не было. Теперь мне обязательно хотелось обыграть его, и с тех пор я каждый день ходил к нему заниматься по арифметике, и мы по целым часам сражались в шахматы.
Постепенно я подучился играть, и мне иногда удавалось выиграть у него партию. Это, правда, случалось редко, но доставляло мне большое удовольствие. Во-первых, когда он начинал проигрывать, то переставал болтать, как попугай; во-вторых, страшно нервничал: то вскочит, то сядет, то за голову схватится.
Просто смешно было смотреть. Я, например, не стану так нервничать, если буду проигрывать, но и не стану радоваться, если проигрывает товарищ. А вот Алик наоборот: он не может сдержать свою радость, когда выигрывает, а когда проигрывает, то готов на себе волосы рвать от досады.
Для того чтобы научиться играть как следует, я играл в шахматы дома с Ликой, а когда дома был папа, то даже и с папой. Однажды папа сказал, что у него когда-то была книжка, учебник шахматной игры, и если я хочу научиться играть хорошо, то мне следует почитать эту книжку. Я сейчас же принялся искать этот учебник и нашел его в корзинке, где лежали разные старые книжки. Сначала я думал, что ничего не пойму в этой книге, но когда начал читать, то увидел, что она написана очень просто и понятно. В книге говорилось, что в шахматной игре, как на войне, нужно стараться поскорей захватить инициативу в свои руки, поскорей выдвинуть свои фигуры вперед, ворваться в расположение противника и атаковать его короля. В книжке рассказывалось, как нужно начинать шахматные партии, как подготовлять нападение, как защищаться, и другие разные полезные вещи.
Я читал эту книжку два дня, а когда пришел на третий день к Алику, то стал выигрывать у него партию за партией. Алик просто недоумевал и не понимал, в чем дело. Теперь положение переменилось. Через несколько дней я играл уже так, что ему даже случайно не удавалось меня обыграть.
Из-за этих шахмат на арифметику у нас оставалось мало времени, а Алик объяснял мне все наспех, как говорится – на скорую ручку, комком да в кучку. В шахматы играть я научился, а вот не заметил, чтоб это улучшило мои способности к арифметике. С арифметикой у меня по-прежнему обстояло плохо, и я решил бросить шахматную игру. К тому же шахматы мне уже надоели. С Аликом неинтересно было играть, потому что он все время проигрывал. Я сказал, что больше не буду играть в шахматы.
– Как! – сказал Алик. – Ты решил бросить шахматы? Да у тебя ведь замечательные шахматные способности! Ты станешь знаменитым шахматистом, если будешь продолжать играть!
– Никаких у меня способностей нет! – говорю я. – Ведь я вовсе не своим умом обыгрывал тебя. Всему этому я научился из книжки.
– Из какой книжки?
– Есть такая книжка – учебник шахматной игры. Если хочешь, я тебе дам почитать эту книжку, и ты станешь играть не хуже меня.
Алику захотелось поскорей прочитать эту книжку. Мы пошли с ним ко мне. Я дал ему учебник шахматной игры, и он поскорей убежал домой, чтоб начать читать.
А я решил не играть больше в шахматы до тех пор, пока не подтянусь по арифметике.
Глава седьмая
Наш вожатый Володя затеял устроить в школе вечер самодеятельности. Некоторые ребята решили выучить наизусть стихи и прочитать их на сцене. Другие решили показать на сцене физкультурные упражнения и сделать пирамиду. Гриша Васильев сказал, что будет играть на балалайке, а Павлик Козловский будет танцевать гопак. Но самую интересную вещь придумали Ваня Пахомов и Игорь Грачев. Они решили поставить отрывок «Бой Руслана с головой» из поэмы Пушкина «Руслан и Людмила». Этот отрывок был напечатан в нашей книге для чтения «Родная речь» для четвертого класса. Мы как раз недавно его читали. Игорь Грачев сказал, что голову великана он вырежет из фанеры и разрисует ее пострашней, а сам, спрятавшись позади нее, будет говорить что надо. А Ваня сыграет Руслана. Он сделает себе деревянное копье и будет драться с головой.
Нам с Шишкиным тоже захотелось участвовать в самодеятельности, но Ольга Николаевна не разрешила.
– Вам сначала надо исправить свои отметки, – сказала она, – а потом можно будет и на сцене играть.
И вот все ребята принялись разучивать свои роли и репетировать на сцене, а мы с Шишкиным толклись в зале и с завистью смотрели на всех. Игорь вырезал из целого фанерного листа голову великана. Нижнюю челюсть он сделал из фанеры отдельно и прикрепил гвоздем так, что голова могла открывать рот. Потом он разрисовал голову красками и сделал ей вытаращенные глаза. Когда он прятался за нею и шевелил фанерной челюстью, а сам в это время рычал и разговаривал, то казалось, что голова сама рычит и разговаривает. А как интересно было смотреть, когда Руслан, то есть Ваня, наскакивал с копьем в руках на голову, а голова дула на него, и его как будто бы ветром относило в сторону!
Однажды Шишкину в голову пришла очень хорошая мысль.
– Я, – говорит, – вчера читал «Руслана и Людмилу», там написано, что Руслан ездил на коне, а у нас он ходит по сцене пешком.
– Где же ты возьмешь коня? – говорю я – Даже если бы и был конь, все равно его на сцену не втащишь.
– У меня есть замечательная идея, – говорит он, – мы с тобой будем представлять коня.
– Как же мы будем представлять коня?
– У меня есть журнал «Затейник», там написано, как двое ребят могут изобразить на сцене коня. Для этого делается из материи такая вроде лошадиная шкура. Впереди делается лошадиная голова, сзади – хвост, а внизу – четыре ноги. Я, понимаешь, залезаю в эту шкуру спереди и просовываю свою голову в лошадиную голову, а ты залезаешь в шкуру сзади, нагибаешься и держишься руками за мой пояс, так что твоя спина получается вроде лошадиная спина. У лошади четыре ноги, и у нас с тобой тоже четыре ноги. Куда я иду, туда и ты, вот и получается лошадь.
– Как же мы сошьем такую шкуру? – говорю я. – Если бы мы были девчонки, то, может быть, сумели бы сшить. Девчонки всегда рукодельничать умеют.
– А ты попроси свою сестру Лику, она нам поможет. Мы рассказали обо всем Лике и попросили помочь.
– Ладно, – говорит Лика, – я вам помогу, но для этого ведь надо достать материи.
* * *
Мы долго думали, где бы достать материи, а потом Шишкин нашел у себя на чердаке какой-то старый, никому не нужный матрац. Мы вытряхнули из матраца всю начинку и показали его Лике. Лика сказала, что из него, пожалуй, что-нибудь выйдет. Она распорола матрац, так что получилось два больших куска материи. На одном куске она велела нам нарисовать большую лошадь. Мы взяли кусок мела и нарисовали на материи лошадь с головой и с ногами – все как полагается. После этого Лика сложила оба куска и вырезала ножницами, так что сразу получились две лошадиные выкройки из материи. Эти две выкройки она стала сшивать по спине и по голове. Мы с Костей тоже вооружились иголками и принялись помогать ей шить. Особенно много было возни с ногами, потому что каждую ногу нужно было сшить отдельно трубочкой. Мы все пальцы искололи себе иголками. Наконец сшили всё. На другой день мы достали мочалы и сена и стали продолжать работу. В лошадиную голову мы напихали сена, чтоб она лучше держалась, а из мочалы сделали хвост и гриву.
Когда все это было сделано, мы с Костей залезли в лошадиную шкуру через дырку, которая была оставлена на животе, и попробовали ходить. Лика засмеялась и сказала, что лошадь получилась хорошая, только надо кое-где подложить ваты, а то у нее получились очень тощие бока, и, кроме того, ее надо покрасить, так как видно, что она сделана из материи. Тогда мы вылезли из этой лошадиной шкуры. Лика принялась подшивать куда надо вату, а Шишкин принес из дому мастику, которой натирают полы, и мы покрасили шкуру этой мастикой. Получился настоящий гнедой лошадиный цвет. Потом мы взяли краски и нарисовали на голове глаза, ноздри, рот. На ногах нарисовали копыта. Еще Лика придумала пришить к лошадиной голове уши, так как без ушей голова получалась не очень красивая. После этого мы снова залезли в лошадиную шкуру.
– И‑го-го-го! – заржал по-лошадиному Костя. Лика захлопала в ладоши и чуть не захлебнулась от смеха.
– Прямо настоящая лошадь получилась! – кричала она. Мы попробовали ходить по комнате и брыкаться ногами. Наверно, это очень смешно получалось, потому что Лика все время смеялась. Потом пришла мама и тоже очень смеялась, глядя на нашу лошадь. Тут вернулся с работы папа, и он тоже смеялся.
– Для чего это вы сделали? – спросил он нас. Мы рассказали, что в школе у нас будет спектакль и мы с Костей будем представлять коня.
– Это очень хорошо, что у вас в школе придумывают для ребят такие развлечения. Ребята приучаются заниматься полезным делом. Вы скажите, когда будет представление, я тоже приду, – сказал папа.
Потом мы пошли к Шишкину, чтоб показать лошадь его маме и тете.
– Ну вот, – сказал я, – папа придет, а вдруг нам не позволят играть.
– Ты молчи, – говорит Шишкин. – Никому ничего говорить не надо. Мы придем заранее и спрячемся за сценой, а Ваню Пахомова предупредим, чтоб он, перед тем как выходить на сцену, сел на лошадь.
– Правильно! – говорю я. – Так и сделаем. С тех пор мы с нетерпением ждали представления и даже заниматься не могли из-за этого как следует. Каждый день мы пробовали надевать лошадиную шкуру и ходить в ней для тренировки. Лика то и дело подшивала под шкуру куски ваты, так что лошадь в конце концов сделалась гладенькая, упитанная. Для того чтобы лошадиные уши не висели, как лопухи, Костя придумал вставить внутрь пружинки, и уши стали торчать кверху, как полагается. Еще Костя придумал привязать к ушам ниточки. Он незаметно дергал эти ниточки, и лошадь шевелила ушами, как настоящая.
Наконец наступил долгожданный день представления. Мы незаметно принесли лошадиную шкуру и спрятали позади сцены. Потом мы увидели Ваню Пахомова. Костя отозвал его в сторону и говорит:
– Слушай, Ваня, перед тем как выходить на сцену и драться с головой, ты зайди за кулисы. Там будет стоять приготовленная для тебя лошадь. Ты на эту лошадь садись и выезжай на сцену.
– А что это за лошадь? – спрашивает Ваня.
– Это не твоя забота. Лошадь хорошая. Садись на нее, и она повезет тебя куда надо.
– Не знаю, – говорит Ваня. – Мы ведь без лошади репетировали.
– Чудак! – говорит Шишкин. – С лошадью ведь гораздо лучше. Даже у Пушкина написано, что Руслан ездил на лошади. Как там написано: «Я еду, еду, не свищу, а как наеду, не спущу!» На чем же он едет, если не на лошади. И в «Родной речи» у нас есть картинка, там Руслан нарисован на лошади.
– Ну ладно, – говорит Ваня. – Мне и самому неловко ходить по сцене пешком. Витязь – и вдруг без лошади.
– Только ты никому не говори, а то весь эффект пропадет, – говорит Костя.
– Хорошо.
И вот, когда публика начала собираться, мы незаметно пробрались за кулисы, приготовили лошадиную шкуру и стали ждать. Ребята суетились, бегали по сцене, проверяли декорации. Наконец раздался последний звонок и начались выступления ребят. Нам все хорошо было видно и слышно: и как читали стихи, и как делали физкультурные упражнения. Мне очень понравились физкультурные упражнения. Ребята делали их под музыку, четко, ритмично, все, как один. Недаром тренировались две недели подряд. Потом занавес закрылся, на сцене быстро установили фанерную голову с открывающимся ртом и Игорь Грачев спрятался за нею. Тут появился Ваня. На голове у него был блестящий шлем, сделанный из картона, в руках деревянное копье, выкрашенное серебряной краской.
Ваня подошел к нам и говорит:
– Ну, где же ваша лошадь?
– Сейчас, – говорим мы.
Быстро влезли в лошадиную шкуру – и перед ним появился конь.
– Садись, – говорю я.
Ваня залез мне на спину и уселся. Тут я почувствовал, что коням не сладко живется на свете. Под тяжестью Вани я согнулся в три погибели и покрепче вцепился в пояс Шишкина, чтоб была опора. Тут как раз и занавес открылся.
– Но! Поехали! – скомандовал Ваня, то есть Руслан. Мы с Шишкиным затопали прямо на сцену. Ребята в зале встретили нас дружным смехом. Видно, наш конь понравился.
Мы поехали прямо к голове.
– Тпру! Тпру! – зашипел Руслан. – Куда вас понесло? Чуть на голову не наехали! Осади назад! Мы попятились назад. В зале раздался громкий смех.
– Да не пятьтесь назад! Вот чудаки! – ругал нас Ваня. – Повернитесь и выезжайте на середину сцены. Мне монолог надо читать.
Мы повернулись и выехали на середину сцены. Тут Ваня заговорил замогильным голосом:
О поле, поле, кто тебя
Усеял мертвыми костями?
Он долго читал эти стихи, завывая на все лады, а Шишкин в это время дергал за ниточки, и конь наш шевелил ушами, что очень веселило зрителей. Наконец Ваня кончил свой монолог и прошептал:
– Ну, теперь к голове подъезжайте.
Мы повернулись и поехали к голове. Не доезжая до нее шагов пять, Шишкин начал хрипеть, упираться ногами и становиться на дыбы. Я тоже стал брыкаться, чтоб показать, будто конь испугался головы великана. Тут Руслан стал пришпоривать коня, то есть, попросту говоря, бить меня каблуками по бокам. Тогда мы подъехали к голове. Руслан принялся щекотать ей ноздри копьем. Тут голова как раскроет рот да как чихнет! Мы с Шишкиным отскочили, завертелись по всей сцене, будто нас отнесло ветром. Руслан даже чуть не свалился с коня. Шишкин наступил мне на ногу. От боли я запрыгал на одной ножке и стал хромать. Ваня снова стал пришпоривать меня. Мы опять поскакали к голове, а она принялась на нас дуть, и нас снова понесло в сторону. Так мы налетали на нее несколько раз, наконец я взмолился.
– Кончайте, – говорю, – скорей, а то я не выдержу. У меня и так уже нога болит!
Тогда мы подскочили к голове в последний раз, и Ваня треснул ее копьем с такой силой, что с нее посыпалась краска. Голова упала, представление окончилось, и конь, хромая, ушел со сцены. Ребята дружно захлопали в ладоши. Ваня соскочил с лошади и побежал кланяться публике, как настоящий актер.
Шишкин говорит:
– Мы ведь тоже представляли на сцене. Надо и нам поклониться публике.
И тут все увидели, что на сцену выбежал конь и стал кланяться, то есть просто кивать головой. Всем это очень понравилось, в зале поднялся шум. Ребята принялись еще громче хлопать в ладоши. Мы поклонились и убежали, а потом снова выбежали и опять стали кланяться. Тут Володя сказал, чтоб скорей закрывали занавес. Занавес сейчас же закрыли. Мы хотели убежать, но Володя схватил коня за уши и сказал:
– Ну-ка, вылезайте! Кто это тут дурачится? Мы вылезли из лошадиной шкуры.
– А, так это вы! – сказал Володя. – Кто вам разрешил здесь баловаться?
– Разве плохой конь получился? – удивился Шишкин.
– Коня-то вы хорошо смастерили, – сказал Володя. – А сыграть как следует не смогли: на сцене серьезный разговор происходит, а конь стоит, ногами шаркает, то отставит ноги, то приставит. Где вы видели, чтоб лошади так делали?
– Ну, устанешь ведь спокойно на одном месте стоять, – говорю я. – И еще Ваня на мне верхом сидит. Знаете, какой он тяжелый. Где уж тут спокойно стоять!
– Надо было стоять, раз на сцену вышли. И еще. Руслан читает стихи: «О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями?» – и вдруг в публике смех. Я думаю, почему смеются? Что тут смешного! А оказывается, конь в это время ушами захлопал!
– Ну, кони всегда шевелят ушами, когда прислушиваются, – говорит Шишкин.
– К чему же тут понадобилось прислушиваться?
– Ну, к стихам… Он услышал, что Руслан читает стихи, и пошевелил ушами.
– Если б пошевелил, то еще полбеды, а он ими так задвигал, будто мух отгонял.
– Это я переиграл малость, – говорит Шишкин. – Слишком сильно за веревочку дергал.
– «Переиграл»! – передразнил его Володя. – Вот не лезьте в другой раз без спросу на сцену.
Мы очень опечалились и думали, что нам еще от Ольги Николаевны за это достанется, но Ольга Николаевна нам совсем ничего не сказала, и для меня это было почему-то хуже, чем если бы она как следует пробрала нас за то, что мы не послушались ее.
Наверно, она решила, что мы с Шишкиным какие-нибудь такие совсем неисправимые, что с нами даже разговаривать серьезно не стоит.
Из-за этого представления да еще из-за шахмат я так и не взялся как следует за учебу, и, когда через несколько дней нам выдали за первую четверть табели, я увидел, что у меня стоит двойка по арифметике.
Я и раньше знал, что у меня будет в четверти двойка, но все думал, что четверть еще не скоро кончится и я успею подтянуться, но четверть так неожиданно кончилась, что я и оглянуться не успел. У Шишкина тоже была в четверти двойка по русскому.
– И зачем это выдают табели перед самым праздником? Теперь у меня будет весь праздник испорчен! – сказал я Шишкину, когда мы возвращались домой.
– Почему? – спросил Шишкин.
– Ну потому, что придется показывать дома двойку.
– А я не буду перед праздником показывать двойку, – сказал Шишкин. – Зачем я буду маме праздник портить?
– Но после праздника ведь все равно придется показывать, – говорю я.
– Ну что ж, после праздника конечно, а на праздник все веселые, а если я покажу двойку, все будут скучные. Нет, пусть лучше веселые будут. Зачем я буду огорчать маму напрасно? Я люблю маму.
– Если бы ты любил, то учился бы получше, – сказал я.
– А ты-то учишься, что ли? – ответил Шишкин.
– Я – нет, но я буду учиться.
– Ну и я буду учиться.
На этом наш разговор окончился, и я решил, по шишкинскому примеру, показать табель потом, когда праздники кончатся. Ведь бывают же такие случаи, когда табели ученикам выдают после праздника. Ничего тут такого нету.
Глава восьмая
Наконец наступил день, которого я давно уже с нетерпением ждал, – день Седьмого ноября, праздник Великой Октябрьской революции.
Я проснулся рано-рано и сразу подбежал к окошку, чтобы взглянуть на улицу. Солнышко еще не взошло, но уже было совсем светло. Небо было чистое, голубое. На всех домах развевались красные флаги. На душе у меня стало радостно, будто снова наступила весна. Почему-то так светло, так замечательно на душе в этот праздник! Почему-то вспоминается все самое хорошее и приятное. Мечтаешь о чем-то чудесном, и хочется поскорей вырасти, стать сильным и смелым, совершать разные подвиги и геройства: пробираться сквозь глухую тайгу, карабкаться по неприступным скалам, мчаться на самолете по голубым небесам, опускаться под землю, добывать железо и уголь, строить каналы и орошать пустыни, сажать леса или работать на заводе и делать какие-нибудь новые замечательные машины.
Вот какие мечты у меня. И ничего в этом удивительного нету, я думаю. Папа говорит, что в нашей стране каждый человек всего добьется, если только захочет и станет как следует учиться, потому что уже много лет назад как раз в этот день, седьмого ноября, мы прогнали капиталистов, которые угнетали народ, и теперь у нас все принадлежит народу. Значит, мне тоже принадлежит все, потому что я тоже народ.
В этот день папа подарил мне волшебный фонарь с картинками, а мама подарила мне коньки, а Лика подарила мне компас, а я подарил Лике разноцветные краски для рисования.
А потом мы с папой и Ликой пошли на завод, где папа работает, а оттуда пошли на демонстрацию вместе со всеми рабочими с папиного завода. Вокруг гремела музыка, и все пели песни, и мы с Ликой пели, и нам было очень весело, и папа купил нам воздушные шарики: мне красный, а Лике зеленый. А когда мы подошли к самой большой площади нашего города, папа купил нам два красных флажка, и мы с этими флажками прошли мимо трибуны через всю площадь.
Потом мы вернулись домой, и скоро к нам стали собираться гости. Первый пришел дядя Шура. В руках у него было два свертка, и мы сразу догадались, что это он принес нам подарки. Но дядя Шура сначала спросил, хорошо ли мы ведем себя. Мы сказали, что хорошо.
– Маму слушаетесь?
– Слушаемся, – говорим.
– А учитесь как?
– Хорошо, – говорит Лика.
И я тоже сказал:
– Хорошо.
Тогда он подарил мне металлический конструктор, а Лике – строительные кубики.
Потом пришли тетя Лида и дядя Сережа, потом тетя Надя и дядя Юра, и еще тетя Нина. Все спрашивали меня, как я учусь. Я всем говорил – хорошо, и все дарили мне подарки, так что под конец у меня собралась целая куча подарков. У Лики тоже была целая куча подарков. И вот я сидел и смотрел на свои подарки, и постепенно у меня на душе сделалось грустно. Меня начала мучить совесть, потому что у меня по арифметике была двойка, а я всем говорил, что учусь хорошо. Я долго думал над этим и в конце концов дал сам себе обещание, что теперь возьмусь учиться как следует и тогда такие случаи уже никогда в жизни больше не будут повторяться. После того как я это решил, грусть моя стала понемногу проходить, и я постепенно развеселился.
Восьмого ноября тоже был праздник. Я побывал в гостях у многих ребят из нашего класса, и многие ребята побывали у нас. Мы только и делали, что играли в разные игры, а вечером смотрели на стене картины от волшебного фонаря. Когда я ложился спать, то сложил все свои подарки возле своей кровати на стуле. Лика тоже сложила свои подарки на стуле, а под потолком над нами красовались два воздушных шарика, с которыми мы ходили на демонстрацию. Так приятно было смотреть па них!
На следующий день, когда я проснулся, то увидел, что воздушные шарики лежат на полу. Они сморщились и стали меньше. Легкий газ из них вышел, и они уже не могли больше взлетать кверху. А когда в этот день я вернулся из школы, то не знал, как сказать маме про двойку, но мама сама вспомнила про табель и велела показать ей. Я молча вытащил табель из сумки и отдал маме. Мама стала проверять, какие у меня отметки, и, конечно, сразу увидела двойку.
– Ну вот, так я и знала! – сказала она нахмурившись. – Все гулял да гулял, а теперь в четверти двойка. А все почему? Потому что ничего слушать не хочешь! Сколько раз тебе говорилось, чтобы ты вовремя делал уроки, но тебе хоть говори, хоть нет – все как об стену горохом. Может быть, ты хочешь на второй год остаться?
Я сказал, что Теперь буду учиться лучше и что теперь у меня двойки ни за что па свете не будет, но мама только усмехнулась в ответ. Видно было, что ни чуточки не поверила моим обещаниям. Я просил маму подписать табель, но она сказала:
– Нет уж, пусть папа подпишет.
Это было хуже всего! Я надеялся, что мама подпишет табель и тогда можно будет не показывать его папе, а теперь мне предстояло еще выслушивать упреки папы. Настроение у меня стало такое плохое, что не хотелось даже делать уроки.
«Пускай, – думаю, – папа уж отругает меня, тогда я буду заниматься».
Наконец папа пришел с работы. Я подождал, когда он пообедает, потому что после обеда он всегда бывает добрей, и положил табель на стол так, чтоб папа его увидел. Папа скоро заметил, что на столе возле него лежит табель, и стал смотреть отметки.
– Ну вот, достукался! – сказал он, увидев двойку. – Неужели тебе перед товарищами не стыдно, а?
– Будто я один получаю двойки! – ответил я.
– У кого же еще есть двойки?
– У Шишкина.
– Почему же ты берешь пример с Шишкина? Ты бы брал пример с лучших учеников. Или Шишкин у вас такой авторитет?
– И совсем не авторитет, – сказал я.
– Вот ты и стал бы учиться лучше да еще Шишкину помог. Неужели вам обоим нравится быть хуже других?
– Мне, – говорю, – вовсе не нравится. Я уже сам решил начать учиться лучше.
– Ты и раньше так говорил.
– Нет, раньше я так просто говорил, а теперь я решил твердо взяться.
– Что ж, посмотрим, какая у тебя твердость. Папа подписал табель и больше ничего не сказал. Мне даже обидно стало, что он так мало укорял меня. Наверно, он решил, что со мной долго разговаривать нечего, раз я всегда только обещаю, а ничего не выполняю. Поэтому я решил на этот раз доказать, что у меня есть твердость, и начать учиться как следует. Жаль только, что в этот день по арифметике ничего не было задано, а то бы я, наверно, задачу сам решил.
На другой день я спросил Шишкина:
– Ну как, досталось тебе от мамы за двойку?
– Досталось! И от тети Зины досталось. Уж лучше б она молчала! У нее только одни слова: «Вот я за тебя возьмусь как следует!» А как она за меня возьмется? Когда-то она сказала: «Вот я за тебя возьмусь: буду каждый вечер проверять, как ты сделал уроки». А сама раза два проверила, а потом записалась в драмкружок при клубе автозавода, и как только вечер – ее и нету. «Я тебя, говорит, завтра проверю». И так каждый раз: завтра да завтра, а потом и совсем ничего. Потом вдруг: «Ну-ка, показывай тетрадки, отвечай, что на завтра задано». А у меня как раз ничего не сделано, потому что я уже отвык, чтоб меня проверяли. Словом, что ни вечер, то ее дома нет. Если на занятия драмкружка не надо идти, то в театр пойдет.
– Ей ведь надо в театр ходить, раз она в театральном училище учится, – сказал я.
– Это я понимаю, – говорит Шишкин. – Мама тоже на курсах повышения квалификации учится, да еще работает, а не говорит же она: «Я за тебя возьмусь». Мама просто объяснит, что надо учиться, а если и накричит на меня, то я не обижаюсь. А на тетю Зину всегда буду обижаться, потому что если берешься, то берись, а если не берешься, то не берись. Я, может быть, жду, когда тетя Зина за меня возьмется, и сам ничего не делаю. Такой у меня характер!
– Это ты просто вину с себя на другого перекладываешь, – сказал я. – Переменил бы характер.
– Вот ты бы и переменил. Будто ты лучше моего учишься!
– Я буду лучше учиться, – говорю я.
– Ну и я буду лучше, – ответил Шишкин.
Через несколько дней наш преподаватель физкультуры Григорий Иванович сказал, что спортивный зал у нас уже оборудован для игры в баскетбол и кто желает, может записаться в баскетбольную команду. Все ребята обрадовались и стали записываться.
Мы с Шишкиным тоже, конечно, хотели записаться, но Григорий Иванович не записал нас.
– В баскетбольной команде может играть только тот, кто хорошо учится, – сказал он нам.
Шишкин очень расстроился. Он давно уже ждал, когда можно будет играть в баскетбол, и вот теперь, когда другие ребята будут играть, нам, как говорится, приходилось остаться за бортом. Я лично не очень огорчился, потому что решил начать учиться лучше и во что бы то ни стало добиться, чтоб меня приняли в баскетбольную команду.
В этот же день Ольга Николаевна сказала, что многие наши ребята уже подтянулись и стали учиться успешнее. Лучше всего дело обстояло в первом звене. У них не было ни одной двойки, а троек было всего две. Ольга Николаевна сказала, что когда они исправят эти тройки, то звено выполнит свое обещание учиться только на пятерки и четверки. Хуже всего дело обстояло в нашем звене, так как у нас были две двойки – моя и шишкинская.
Юра сказал:
– Вот! Мы с вами в хвосте оказались! Надо что-нибудь придумать, как из этого положения выпутаться.
– Это всё они, вот эти двое! – сказал Леня Астафьев и показал на нас с Шишкиным. – Что ж это вы, а? Все звено позорите! Все ребята стараются, а им хоть кол на голове теши, ничего не помогает! Ты, Малеев, почему плохо учишься?
Тут все на меня набросились:
– Ты что, не понимаешь, что надо учиться лучше? – Не понимаю, о чем разговор! – сказал я. – Я уже сам решил учиться лучше, а тут снова-наново разговор происходит!
– Решил, так надо учиться! А у тебя какие отметки? – спросил Алик Сорокин.
– Так отметки у меня за прошлое, а решил я только позавчера, – говорю я.
– Эх, ты! Будто не мог раньше решить!
– Постойте, ребята, не надо ссориться, – сказала Ольга Николаевна. – Отстающим надо помочь. В вашем звене есть хорошие ученики. Надо выделить кого-нибудь в помощь Шишкину и Малееву.
– Можно мне помогать Малееву? – спросил Ваня Пахомов.
– А я буду помогать Шишкину, – сказал Алик Сорокин. – Можно?
– Конечно, можно, – сказала Ольга Николаевна. – Это очень хорошо, что вы хотите помочь товарищам. Но Витя и Костя сами должны побольше работать. Ты, Витя, наверно, если не можешь решить задачку, так сейчас же спрашиваешь папу или маму?
– Нет, – говорю я. – Я теперь папу никогда не спрашиваю. Зачем я буду отрывать его от работы? Я просто иду к товарищу и спрашиваю.
– Ну, это все равно. Я хочу сказать, что нужно самому добиваться. Если посидишь над задачей как следует да разберешься сам, то кое-чему научишься, а если каждый раз за тебя задачи будет кто-нибудь другой делать, то сам их решать ты никогда не научишься. Для того и задают задачи, чтоб ученик приучался самостоятельно думать.
– Хорошо, – говорю я. – Теперь я буду сам.
– Вот-вот, постарайся. Только в крайнем случае, если увидишь, что задачи тебе не осилить, обращайся за помощью к товарищу или ко мне.
– Нет, – говорю я. – Мне кажется, теперь я осилю сам, а уж если никак не осилю, тогда пойду к Ване.
– Если желание будет, то осилишь, – сказала Ольга Николаевна.
Глава девятая
Пришел я домой и сразу взялся за дело. Такая решимость меня одолела, что я даже сам удивился. Сначала я задумал сделать самые трудные уроки, как Ольга Николаевна нас учила, а потом взяться за то, что полегче. Как раз в этот день была задана задача по арифметике. Недолго думая я раскрыл задачник и принялся читать задачу:
«В магазине было 8 пил, а топоров в три раза больше. Одной бригаде плотников продали половину топоров и три пилы за 84 рубля. Оставшиеся топоры и пилы продали другой бригаде плотников за 100 рублей. Сколько стоит один топор и одна пила?»
Сначала я совсем ничего не понял и начал читать задачу во второй раз, потом в третий… Постепенно я понял, что тот, кто составляет задачи, нарочно запутывает их, чтобы ученики не могли сразу решить. Написано: «В магазине было 8 пил, а топоров в три раза больше». Ну и написали бы просто, что топоров было 24 штуки. Ведь если пил было 8, а топоров было в три раза больше, то каждому ясно, что топоров было 24. Нечего тут и огород городить! И еще: «Одной бригаде плотников продали половину топоров и 3 пилы за 84 рубля». Сказали бы просто: «Продали 12 топоров». Будто не ясно, раз топоров было 24, то половина будет 12. И вот все это продали, значит, за 84 рубля. Дальше опять говорится, что оставшиеся пилы и топоры продали другой бригаде плотников за 100 рублей. Какие это оставшиеся? Будто нельзя сказать по-человечески? Если всего было 24 топора, а продали 12, то и осталось, значит, 12. А пил было всего-навсего 8; 3 продали одной бригаде, значит, другой бригаде продали 5. Так бы и написали, а то запутают, запутают, а потом небось говорят, что ребята бестолковые – не умеют задачи решать!
Я переписал задачу по-своему, чтоб она выглядела попроще, и вот что у меня получилось:
«В магазине было 8 пил и 24 топора. Одной бригаде плотников продали 12 топоров и 3 пилы за 84 рубля. Другой бригаде плотников продали 12 топоров и 5 пил за 100 рублей. Сколько стоит одна пила и один топор?»
Переписавши задачу, я снова прочитал ее и увидел, что она стала немножко короче, но все-таки я не мог додуматься, как ее сделать, потому что цифры путались у меня в голове и мешали мне думать. Я решил как-нибудь подсократить задачу, чтоб в ней было поменьше цифр. Ведь совершенно неважно, сколько было в магазине этих самых пил и топоров, если в конце концов их все продали. Я сократил задачу, и она получилась вот какая:
«Одной бригаде продали 12 топоров и 3 пилы за 84 рубля. Другой бригаде продали 12 топоров и 5 пил за 100 рублей. Сколько стоит один топор и одна пила?»
Задача стала короче, и я стал думать, как бы ее еще сократить. Ведь неважно, кому продали эти пилы и топоры. Важно только, за сколько продали. Я подумал, подумал – и задача получилась такая:
«12 топоров и 3 пилы стоят 84 рубля.
12 топоров и 5 пил стоят 100 рублей.
Сколько стоит один топор и одна пила?»
Сокращать больше было нельзя, и я стал думать, как решить задачу. Сначала я подумал, что если 12 топоров и 3 пилы стоят 84 рубля, то надо сложить все топоры и пилы вместе и 84 поделить на то, что получилось. Я сложил 12 топоров и 3 пилы, получилось 15, Тогда я стал делить 84 на 15, но у меня не поделилось, потому что получился остаток. Я понял, что произошла какая-то ошибка, и стал искать другой выход. Другой выход нашелся такой: я сложил 12 топоров и 5 пил, получилось 17, и тогда я стал делить 100 на 17, но у меня опять получился остаток. Тогда я сложил все 24 топора между собой и прибавил к ним 8 пил, а рубли тоже сложил между собой и стал делить рубли на топоры с пилами, но деление все равно не вышло. Тогда я стал отнимать пилы от топоров, а деньги Целить на то, что получилось, но все равно у меня ничего не получилось. Потом я еще пробовал складывать между собой пилы и топоры по отдельности, а потом отнимать топоры от денег, и то, что осталось, делить на пилы, и чего я только не делал, никакого толку не выходило. Тогда я взял задачу и пошел к Ване Пахомову.
– Слушай, – говорю, – Ваня, 12 топоров и 3 пилы вместе стоят 84 рубля, а 12 топоров и 5 пил стоят 100 рублей. Сколько стоит один топор и одна пила? Как, по-твоему, нужно сделать задачу?
– А как ты думаешь? – спрашивает он.
– Я думаю, нужно сложить 12 топоров и 3 пилы и 84 поделить на 15.
– Постой! Зачем тебе складывать пилы и топоры?
– Ну, я узнаю, сколько было всего, потом 84 разделю на сколько всего и узнаю, сколько стоила одна.
– Что – одна? Одна пила или один топор?
– Пила, – говорю, – или топор.
– Тогда у тебя получится, что они стоили одинаково.
– А они разве не одинаково?
– Конечно, не одинаково. Ведь в задаче не говорится, что они стоили поровну. Наоборот, спрашивается, сколько стоит топор и сколько пила отдельно. Значит, мы не имеем права их складывать.
– Да их, – говорю, – хоть складывай, хоть не складывай, все равно ничего не выходит!
– Вот поэтому и не выходит.
– Что же делать? – спрашиваю я.
– А ты подумай.
– Да я уже два часа думал!
– Ну, присмотрись к задаче, – говорит Ваня. – Что ты видишь?
– Вижу, – говорю, – что 12 топоров и 3 пилы стоят 84 рубля, а 12 топоров и 5 пил стоят 100 рублей.
– Ну, ты замечаешь, что в первый раз и во второй топоров куплено одинаковое количество, а пил на две больше?
– Замечаю, – говорю я.
– А замечаешь, что во второй раз уплатили на 16 рублей дороже?
– Тоже замечаю. В первый раз уплатили 84 рубля, а во второй раз – 100 рублей. 100 минус 84, будет 16.
– А как ты думаешь, почему во в второй раз уплатили на 16 рублей больше?
– Это каждому ясно, – ответил я, – купили 2 лишние пилы, вот и пришлось уплатить лишних 16 рублей.
– Значит, 16 рублей заплатили за две пилы?
– Да, – говорю, – за две.
– Сколько же стоит одна пила?
– Раз две 16, то одна, – говорю, – 8.
– Вот ты и узнал, сколько стоит одна пила.
– Тьфу! – говорю. – Совсем простая задача! Как это я сам не догадался?!
– Постой, тебе еще надо узнать, сколько стоит топор.
– Ну, это уж пустяк, – говорю я. – 12 топоров и 3 пилы стоят 84 рубля. 3 пилы стоят 24 рубля. 84 минус 24, будет 60. Значит, 12 топоров стоят 60 рублей, а один топор – 60 поделить на 12, будет 5 рублей.
Я пошел домой, и очень мне было досадно, что я не сделал эту задачу сам. Но я решил в следующий раз обязательно сам сделать задачу. Хоть пять часов буду сидеть, а сделаю.
На следующий день нам по арифметике ничего не было задано, и я был рад, потому что это не такое уж большое удовольствие задачи решать.
«Ничего, – думаю, – хоть один день отдохну от арифметики».
Но все вышло совсем не так, как я думал. Только я сел за уроки, вдруг Лика говорит:
– Витя, нам тут задачу задали, я никак не могу решить. Помоги мне.
Я только поглядел на задачу и думаю:
«Вот будет история, если я не смогу решить! Сразу весь авторитет пропадет».
И говорю ей:
– Мне сейчас очень некогда. У меня тут своих уроков полно. Ты поди погуляй часика два, а потом придешь, я помогу тебе.
Думаю:
«Пока она будет гулять, я тут над задачей подумаю, а потом объясню ей».
– Ну, я пойду к подруге, – говорит Лика.
– Иди, иди, – говорю, – только не приходи слишком скоро. Часа два можешь гулять или три. В общем, гуляй сколько хочешь.
Она ушла, а я взял задачник и стал читать задачу:
«Мальчик и девочка рвали в лесу орехи. Они сорвали всего 120 штук. Девочка сорвала в два раза меньше мальчика. Сколько орехов было у мальчика и девочки?»
Прочитал я задачу, и даже смех меня разобрал: «Вот так задача! – думаю. – Чего тут не понимать? Ясно, 120 надо поделить на 2, получится 60. Значит, девочка сорвала 60 орехов. Теперь нужно узнать, сколько мальчик: 120 отнять 60, тоже будет 60… Только как же это так? Получается, что они сорвали поровну, а в задаче сказано, что девочка сорвала в два раза меньше орехов. Ага! – думаю. – Значит, 60 надо поделить на 2, получится 30. Значит, мальчик сорвал 60, а девочка 30 орехов». Посмотрел в ответ, а там: мальчик 80, а девочка 40.
– Позвольте! – говорю. – Как же это? У меня получается 30 и 60, а тут 40 и 80.
* * *
Стал проверять – всего сорвали 120 орехов. Если мальчик сорвал 60, а девочка 30, то всего получается 90. Значит, неправильно! Снова стал делать задачу. Опять у меня получается 30 и 60! Откуда же в ответе берутся 40 и 80? Прямо заколдованный круг получается!
Вот тут-то я и задумался. Читал задачу раз десять подряд и никак не мог найти, в чем здесь загвоздка.
«Ну, – думаю, – это третьеклассникам задают такие задачи, что и четвероклассник не может решить! Как же они учатся, бедные?»
Стал я думать над этой задачей. Стыдно мне было не решить ее. Вот, скажет Лика, в четвертом классе, а для третьего класса задачу не смог решить! Стал я думать еще усиленнее. Ничего не выходит. Прямо затмение на меня нашло! Сижу и не знаю, что делать. В задаче говорится, что всего орехов было 120, и вот надо разделить их так, чтоб у одного было в два раза больше, чем у другого. Если б тут были какие-нибудь другие цифры, то еще можно было бы что-нибудь придумать, а тут сколько ни дели 120 на 2, сколько ни отнимай 2 от 120, сколько ни умножай 120 на 2, все равно 40 и 80 не получится.
С отчаяния я нарисовал в тетрадке ореховое дерево, а под деревом мальчика и девочку, а на дереве 120 орехов. И вот я рисовал эти орехи, рисовал, а сам все думал и думал. Только мысли мои куда-то не туда шли, куда надо. Сначала я думал, почему мальчик нарвал вдвое больше, а потом догадался, что мальчик, наверно, на дерево влез, а девочка снизу рвала, вот у нее и получилось меньше. Потом я стал рвать орехи, то есть просто стирал их резинкой с дерева и отдавал мальчику и девочке, то есть пририсовывал орехи у них над головой. Потом я стал думать, что они складывали орехи в карманы. Мальчик был в курточке, я нарисовал ему по бокам два кармана, а девочка была в передничке. Я на этом передничке нарисовал один карман. Тогда я стал думать, что, может быть, девочка нарвала орехов меньше потому, что у нее был только один карман. И вот я сидел и смотрел на них: у мальчика два кармана, у девочки один карман, и у меня в голове стали появляться какие-то проблески. Я стер орехи у них над головами и нарисовал им карманы, оттопыренные, будто в них лежали орехи. Все 120 орехов теперь лежали у них в трех карманах: в двух карманах у мальчика и в одном кармане у девочки, а всего, значит, в трех. И вдруг у меня в голове, будто молния, блеснула мысль: «Все 120 орехов надо делить на три части! Девочка возьмет себе одну часть, а две части останутся мальчику, вот и будет у него вдвое больше!» Я быстро поделил 120 на 3, получилось 40. Значит, одна часть 40. Это у девочки было 40 орехов, а у мальчика две части. Значит, 40 помножить на 2, будет 80! Точно как в ответе. Я чуть не подпрыгнул от радости и скорей побежал к Ване Пахомову, чтоб рассказать ему, как я сам додумался решить задачу.
Выбегаю на улицу, смотрю – идет Шишкин.
– Слушай, – говорю, – Костя, мальчик и девочка рвали в лесу орехи, нарвали 120 штук, мальчик взял себе вдвое больше, чем девочка. Что делать, по-твоему?
– Надавать, – говорит, – ему по шее, чтоб не обижал девочек!
– Да я не про то спрашиваю! Как им разделить, чтоб у него было вдвое?
– Пусть делят, как сами хотят. Чего ты ко мне пристал! Пусть поровну делят.
– Да нельзя поровну. Это задача такая.
– Какая еще задача?
– Ну, задача по арифметике.
– Тьфу! – говорит Шишкин. – У меня морская свинка подохла, я ее только позавчера купил, а он тут с задачами лезет!
– Ну, прости, – говорю, – я не знал, что у тебя такое горе.
И побежал дальше. Прибегаю к Ване.
– Слушай, – говорю, – вот какая задача мудреная: мальчик и девочка сорвали 120 орехов. Мальчик взял себе вдвое больше. Надо делить на три части. Правильно я догадался?
– Правильно, – говорит Ваня. – Одну часть возьмет девочка, две части – мальчик, вот у него и будет вдвое больше.
– Это я сам догадался, – говорю я. – Понимаешь, замудрили задачу, думали, никто не догадается, а я все-таки догадался.
– Ну молодец!
– Теперь я всегда буду сам задачи решать, – сказал я.
– Постарайся. Самому всегда лучше: больше толку, – говорит Ваня.
Побежал я обратно домой.
Вдруг навстречу Юра Касаткин.
– Слушай, Юра, – говорю я. – Один мальчик и одна девочка рвали в лесу орехи…
– Да ну тебя с твоими орехами! Ты лучше скажи, почему ты не занимаешься, а все по улицам бегаешь?
– Я занимаюсь, честное слово!
– Ты это оставь! Весь класс назад тянешь! Ты и еще этот твой Шишкин.
– Честное слово, я занимаюсь, а у Шишкина морская свинка сдохла. А ты куда идешь?
– Я шел к тебе, хотел посмотреть, как ты занимаешься, а тебя дома нет, вот я и вижу, как ты уроки делаешь.
– Ну, честное-пречестное слово, я делал задачу, а она у меня не вышла, и я только на минуточку пошел к Ване, чтоб рассказать. Вот идем ко мне, посмотришь.
Мы пошли ко мне, и я стал показывать ему задачу про мальчика и девочку.
– Да ведь это для третьего класса задача! – говорит Юра.
– А это я нарочно повторяю прошлогодние задачи, – говорю я. – В прошлом году я неважно по арифметике учился, вот и хочу теперь наверстать.
– Это ты хорошо придумал. Будешь знать предыдущее, дальше легче будет учиться.
Юра ушел.
Скоро вернулась Лика, я сейчас же принялся объяснять ей задачу. Нарисовал дерево с орехами, и мальчика с двумя карманами, и девочку с одним карманом.
– Вот, – говорит Лика, – как ты хорошо объясняешь! Я сама ни за что не догадалась бы!
– Ну, это пустяковая задача. Когда тебе надо, ты мне говори, я тебе все объясню в два счета.
И вот я как-то совсем неожиданно из одного человека превратился в совсем другого. Раньше мне самому помогали, а теперь я сам мог других учить. И главное, у меня ведь по арифметике была двойка!
Глава десятая
На другой день, когда я проснулся, то увидел в окно, что уже наступила зима. На дворе выпал снег. Все побелело вокруг: и земля и крыши, а деревья стояли как кружевные – все веточки облепило снегом. Я хотел сейчас же пойти покататься на конечках, которые подарила мне мама, но нужно было идти в школу, а после школы я сначала засел за уроки, а потом стал делать задачи по Ликиному задачнику. Я задумал перерешать все задачи для третьего класса. Там было много простых задач, и я щелкал их, как будто семечки, но попадались и такие, над которыми приходилось ломать голову. Только это теперь меня не пугало. Я поставил себе за правило не двигаться дальше, пока не решу задачи. Конечно, я в один день не решил все задачи, а сидел над ними недели две или три. На коньках я ходил кататься только по вечерам, когда становилось совсем темно. Зато когда я перерешал все задачи для третьего класса, то я очень поумнел и уже мог без посторонней помощи решать задачи для четвертого класса, которые задавала нам Ольга Николаевна. В задачнике для четвертого класса было много задач, которые были похожи на задачи для третьего класса, только они были сложнее, но теперь я уже умел распутывать сложные задачи. Мне даже интереснее было решать те задачи, которые посложней. Я уже не боялся арифметики, как раньше. С меня как будто свалилась какая-то тяжесть, и жить мне стало легко. Ольга Николаевна была довольна моими успехами и ставила мне хорошие отметки. Ребята больше не упрекали меня. И мама и папа были рады, что я стал хорошо учиться. Меня приняли в баскетбольную команду, и я через день тренировался с ребятами по два часа. А когда тренировки не было, я катался на коньках, ходил на лыжах, играл с ребятами в хоккей – было что делать.
А Шишкин, вместо того чтобы взяться как следует за учебу, накупил разных морских свинок, белых крыс, черепах. Одних ежей у него было три штуки! И он с ними по целым дням возился, кормил их, ухаживал за ними, а они у него часто болели и дохли. И еще он достал где-то Лобзика. Этот Лобзик был обыкновенный бездомный щенок, то есть, если сказать по правде, то совсем не щенок, а уже довольно большая собака, но еще, видно, молодая, не совсем еще взрослая: мохнатая такая, черного цвета, и уши у нее висели, как лопухи. Он ее встретил где-то на улице и поманил за собой, и привел домой, и выдумал ей имя «Лобзик», хотя Лобзик – это совсем неподходящее для собаки имя, потому что лобзик – это такая маленькая пилочка для выпиливания по дереву. Но Шишкин не знал, что такое лобзик, и вообразил, будто это собачье имя.
Понятно, что со всеми этими делами Шишкину вовсе не до занятий было, и он садился делать уроки после того, как мама раз двадцать напомнит. Вот мать придет с работы и спросит:
– Ты уроки сделал?
– Нет еще. Сейчас буду делать.
– Садись сейчас же.
– Сейчас, сейчас, мамочка, вот только покормлю черепаху.
Мать займется своими делами, а он покормит черепаху, потом вспомнит, что хотел смастерить клетку для морской свинки, и начнет возиться с клеткой. Через некоторое время мать опять скажет:
– Когда же ты будешь делать уроки?
– Сейчас.
– Когда же «сейчас»? Ты все время говоришь «сейчас», а сам ни с места.
– Ну сейчас! Надо же клетку сделать.
– Клетку? Да тут тебе на три дня работы! Прекрати это и садись делать уроки.
– Ладно, – с сожалением говорит Шишкин. – Завтра клетку доделаю. Сейчас только принесу ежам водички и буду делать уроки.
Он берет кружку и отправляется за водой для ежей. Потом начинает проверять, есть ли вода у других животных. Потом обнаруживается, что один из ежей куда-то исчез, и Шишкин начинает искать его по всему дому. Через полчаса мать опять про уроки спросит.
– Сейчас, – говорит Шишкин. – Вот только найду ежа. Еж куда-то запропастился.
И так все время. То одно, то другое, то третье. Если мать уйдет на занятия, он и не подумает за уроки взяться, а ждет: когда время придет уже ложиться спать, тогда он только начинает что-нибудь делать. Конечно, у него все получалось на скорую руку, кое-как, он ничего не выучивал как следует, но все-таки умудрялся получать как-то тройки, иногда даже четверки. Впрочем, это бывало редко. Больше всего он боялся русского языка и почти всегда выезжал на подсказке. Правда, никакой пользы ему от этой подсказки не было. Когда в классе должны были писать диктант или сочинение, то Шишкин заранее был уверен, что напишет на двойку, и решил в такие дни совсем не приходить в школу. И вот однажды, когда Ольга Николаевна сказала, что завтра мы будем писать диктант, Шишкин на следующее утро притворился больным и сказал маме, что у него болит голова. Мама разрешила ему не ходить в этот день в школу и сказала, что позовет врача, как только вернется с работы. Но, когда она вернулась, Шишкин сказал, что голова у него уже не болит, так что никакого врача не нужно было вызывать. Мама написала в школу записку, что Костя пропустил по болезни, и все обошлось благополучно. В другой раз, когда мы в классе должны были писать сочинение, Шишкин снова придумал, что у него болит голова, и мама опять разрешила ему не ходить в школу, но, когда она вернулась с работы, ей показалось странным, что Костя и на этот раз быстро выздоровел. Но тогда она еще ни о чем не догадалась и снова написала в школу записку, что он был болен. Когда же это случилось в третий раз, она стала догадываться, что Костя ее обманывает, чтобы не ходить в школу. Костя сначала не признавался, но мама сказала, что сама пойдет в школу и выяснит, в чем дело. Костя увидел, что мать все равно своего добьется, и во всем ей признался.
Когда мама услышала, что он все это придумывал для того, чтобы увиливать от занятий, она страшно рассердилась. Это случилось как раз в тот день, когда Шишкин привел домой Лобзика. Мама всегда сердилась на Костю за то, что он приносит домой разных животных и возится с ними, вместо того чтоб делать уроки. Поэтому Костя заранее спрятал Лобзика в чулане, чтоб мама не заметила его сразу. И вот, как раз когда Костя признался и мама рассердилась, Лобзик вылез из чулана и пришел прямо в комнату.
– А это еще что такое? – закричала мама, увидев Лобзика.
– Это ничего… Это так просто, собака, – пролепетал Шишкин.
– Собака? – закричала мама. – Сейчас же прогони ее! Развел целый зверинец в доме! Только и делаешь, что с разными зверями возишься, заниматься совсем не хочешь! Сейчас же уноси всех зверей отсюда! И крыс, и мышей, и ежей – всех уноси! И собаку эту гони, довольно я с тобой намучилась.
Нечего делать, Костя со слезами на глазах пошел раздавать своих зверей знакомым ребятам и роздал всех, только одного ежа у него никто не хотел брать. Тогда он пришел с этим ежом ко мне и рассказал, что у него произошло дома. Я тоже не хотел брать ежа, потому что мыши, которых он нам подарил, расплодились во множестве, и несколько мышей поселилось в комоде, к тому же этот еж был какой-то вялый, наверно, больной. Но Шишкин сказал, что еж совсем не больной, а находится в оцепенении, так как ежи обычно погружаются на зиму в спячку, и вот этот еж, значит, тоже уже погружался в спячку. Тогда я согласился взять ежа, а Шишкин сказал, что весной, когда еж пробудится от спячки, он заберет его обратно к себе.
Только Лобзика Костя не хотел никому отдавать и решил спрятать его от мамы на чердаке. Он устроил ему подстилку на дымоходе, а чтоб Лобзик не убежал, привязал его за ошейник веревкой к стропилу. На чердаке было холодно, но дымоход был теплый, и Лобзик не очень мерз, хотя если сказать по правде, то ему иногда сильно доставалось и от жары и от холода в одно и то же время. В сильный мороз дымоход почему-то всегда был очень горячий, поэтому с одной стороны Лобзика пробирая холод, а с другой стороны он поджаривался как будто на сковородке. Костя очень беспокоился, как бы Лобзик не отморозил себе уши или не схватил воспаление легких. Он тайком приносил Лобзику на чердак еду и сам пропадал на чердаке все свободное время, чтобы Лобзику не было скучно. Когда мамы не было дома, он приводил Лобзика домой и играл с ним, а к тому времени, когда мама должна была прийти с работы, уводил его обратно на чердак. Сначала все шло хорошо, но однажды он забыл увести Лобзика из дому вовремя, или, может быть, мама вернулась с работы раньше обычного, не знаю точно, только Шишкин, как говорится, попался на месте преступления. Мама увидела Лобзика.
– Опять эта собака здесь! – закричала она. – Так вот почему у тебя не хватает времени заниматься! Я ведь тебе велела прогнать ее, а ты снова привел!
Тут Шишкин признался, что не послушался маму и Лобзик все это время жил у него на чердаке, а он заботился о нем и кормил его, потому что он его очень любит и не может выгнать его на мороз, так как Лобзик совсем одинокий, бездомный пес.
– Если бы ты стал делать уроки исправнее, я разрешила бы тебе оставить Лобзика. Но ты ведь ничего слушать не хочешь! – сказала мама.
– Как же я могу делать уроки? – ответил Шишкин. – Я вот сяду заниматься, а сам думаю, как там Лобзик на чердаке сидит. Ему небось одному скучно. Вот мне и не лезут уроки в голову.
Тогда мама сжалилась над ним и сказала:
– Если обещаешь выполнять аккуратно все уроки днем после школы, то, так и быть, разрешу оставить тебе эту собаку.
Костя сказал, что обещает.
– Посмотрим, как ты сдержишь свое обещание, – сказала мама. – Я теперь буду проверять тебя ежедневно после работы.
Обо всем этом мне рассказал Костя, когда мы возвращались на другой день из школы.
– Зайдем ко мне, посмотришь, как я буду дрессировать Лобзика, – предложил Костя. – Увидишь, какой это умный пес. Он уже умеет палку в зубах держать.
– По-моему, для того чтоб держать палку в зубах, большого ума не надо, – ответил я.
– Смотря для кого, – говорит Шишкин. – Тебе, конечно, для того чтоб держать палку в зубах, совсем не надо ума, а Лобзику надо.
Пришли мы к нему. Шишкин достал из буфета сахарницу и позвал Лобзика. Лобзик увидел сахарницу, подскочил и весело замахал хвостом. Видно было, что этот предмет ему уже хорошо знаком. Костя сунул ему под нос палку и сказал:
– Вот подержи палку, получишь сахару.
Лобзик отвернулся от палки и покосился на сахарницу.
– Да ты не смотри на сахарницу, держи, говорят тебе, палку! – прикрикнул Костя.
Лобзик все-таки не хотел брать палку. Тогда Костя насильно раскрыл ему пасть и сунул в нее палку, но, как только он отпустил руки, Лобзик разжал зубы, и палка упала на пол.
– Ну вот, уже забыл, чему я его вчера учил! – проворчал Костя. – Придется повторять все сначала.
Он снова сунул палку в пасть Лобзику, а мне велел держать Лобзика за нос так, чтоб он не мог раскрыть рот. Таким образом Лобзик подержал во рту некоторое время палку, и мы дали ему за это кусок сахару. Это упражнение мы проделали несколько раз. Лобзик постепенно понял, что после того, как он подержит в зубах палку, ему дадут сахару, и стал держать палку в зубах сам, без посторонней помощи. Правда, он норовил поскорей бросить палку и получить сахар, но тогда Костя не давал ему сахару и снова заставлял держать палку.
Домой в этот день я вернулся поздно и увидел, что нарушил весь свой режим. Я решил, что летом, когда наступят каникулы, тоже заведу себе собаку и займусь дрессировкой, а сейчас, пока идут занятия, этого делать не стоит, так как дрессировка отнимает очень много времени. Я только начал учиться по арифметике как следует и вдруг опять стану получать двойки. В первую очередь нужно самому учиться, а потом уже можно учить собак.
А Шишкин все свободное время возился с Лобзиком и выучил его не только держать палку в зубах, но и таскать ее за собой. Правда, все это Лобзик делал не даром, а за сахар, но трудился очень усердно. За какой-нибудь маленький кусочек сахару он мог тащить палку или даже целое полено как отсюда до Вокзального переулка.
Шишкин говорил, что выучит Лобзика не только этому, но и многому другому, только больше пока ничему не выучил, потому что ему надоело, и вообще он долго не любил заниматься одним делом, а перескакивал с одного на другое и ничего не доводил до конца.
Глава одиннадцатая
Мы давно уже собирались пойти всем классом в цирк. Володя сказал, что купит на всех билеты, и мы с нетерпением ждали этого дня. Мы уже несколько раз ходили всем классом в кино, но в цирке еще ни разу не были. Я лично давно в цирке не был, а Шишкин был так давно, что совсем почти ничего не помнил. Помнил только, что там были какие-то звери, не то львы, не то тигры, или, может быть, лошади, и больше ничего не помнил. Он тогда был еще совсем маленьким. Особенно нам хотелось посмотреть мотоциклиста, который ездил внутри шара из металлических прутьев. Мы давно уже видели расклеенные по городу афиши и слышали рассказы от тех, кто видел этого мотоциклиста. В огромный шар, сделанный из крепких металлических прутьев, влезает мотоциклист и начинает ездить внутри этого шара на мотоцикле. И вот нижняя половина шара отделяется от верхней и опускается вниз. Мотоциклист остается в верхней половине шара и продолжает ездить. Самое удивительное было то, что мотоциклист не вываливался из этой половины шара, хотя она и висела в воздухе вверх дном. Говорили, будто, когда мотоциклист мчится внутри шара с огромной скоростью, получается какая-то центробежная сила, которая прижимает мотоцикл к шару и не позволяет ему упасть вниз. Но если скорость мотоцикла уменьшится, центробежная сила пропадет – и мотоцикл упадет вниз.
Некоторые ребята говорили, что всех не возьмут в цирк, потому что Володя не сможет достать на всех билеты, а возьмут только круглых отличников. Другие говорили, что возьмут всех, только Шишкина не возьмут. Третьи говорили, что совсем никого не возьмут, потому что билеты, наверно, давно уже проданы.
Наконец билеты были куплены, и мы все пошли в цирк, даже Шишкин пошел. Явились мы задолго до начала представления, но это ничего: лучше прийти немножко раньше, чем опоздать, потому что тебя тогда совсем не пустят. Мы уселись на свои места и принялись рассматривать арену, покрытую огромным ковром. Над нашими головами были протянуты какие-то канаты. Вверху, под куполом цирка, висели трапеции, кольца, веревочные лестницы и другие разные приспособления. Огромное здание цирка постепенно наполнялось народом, так что наконец мне даже стало казаться, что весь город собрался здесь. Я решил сосчитать, сколько в цирке народу, досчитал до двухсот тридцати, сбился и начал сначала. В это время зажглись десятки огромных ламп, и в цирке стало светло, как днем. Все как будто ожило, стало нарядным и праздничным. Огромная толпа зрителей запестрела разноцветными красками. Я думал, что до начала представления еще далеко, и принялся разглядывать публику, но тут торжественно зазвенели литавры, посыпалась звонкая барабанная дробь, запиликали скрипки, закрякали трубы, и… вдруг на арену выбежало множество акробатов. Они принялись прыгать и кувыркаться, подкидывать друг друга руками и ловить за ноги и ходить колесом. И так у них все ловко получалось, что каждому, кто сидел в цирке, тоже хотелось выскочить на арену и начать кувыркаться вместе с акробатами. Я тоже уже вскочил, чтоб бежать на арену, но меня удержала Ольга Николаевна и сказала, чтоб я сел, потому что мешаю другим смотреть. Я увидел, что никто не бежит на арену, и сел на место. Но все-таки я не мог усидеть спокойно, глядя на этих прыгунов-акробатов. Я готов был смотреть на них хоть весь вечер, но они скоро убежали, а вместо них стал выступать дрессировщик с дрессированными медведями. И вот какие ловкие оказались мишки! Они ходили по канату, качались на качелях, катались на бочках: бочка катится, а мишка стоит на ней во весь рост и перебирает лапами. А два медведя даже на велосипедах катались.
После медведей выступали эквилибристы. Они легли на землю, ноги подняли кверху и стали подбрасывать ногами какие-то разноцветные деревянные тумбы. Они крутили их, вертели, перебрасывали ногами друг другу. Иной человек руками того не сделает, что они вытворяли ногами.
* * *
Потом выступали дрессированные собачки. Они прыгали, кувыркались, ходили на задних лапках, возили друг дружку в колясочках, играли в футбол. А одна собака была такая храбрая! Ее подняли вверх, под самый купол цирка, и она прыгнула оттуда с парашютом. Потом дрессировщица сказала, что покажет собаку, которая умеет считать. И вот принесли стул, посадили на него маленькую черненькую собачку. Дрессировщица поставила перед ней три деревянные чурки и велела считать. Мы думали, как же собака будет считать, – ведь не может же она разговаривать. Но собака стала лаять и пролаяла ровно три раза. Публика обрадовалась и стала хлопать в ладоши. Дрессировщица похвалила собаку, дала ей кусочек сахару, потом поставила перед ней пять чурок и снова сказала:
– Считай!
Собака пролаяла пять раз.
Потом дрессировщица стала показывать ей цифры, написанные на картонных табличках. Собака каждый раз отвечала правильно.
Потом дрессировщица стала спрашивать:
– Сколько будет дважды два? Собака пролаяла четыре раза.
– Сколько будет три плюс четыре? Собака пролаяла семь раз.
– Сколько будет десять отнять четыре?
Собака пролаяла шесть раз.
Мы сидели и удивлялись: даже складывать и вычитать собака умела!
Еще выступали жонглеры. Они жонглировали тарелками и другими разными вещами, то есть подбрасывали их и ловили руками. Один подбрасывал сразу четыре тарелки, и другой – четыре тарелки. Потом стали швырять эти тарелки друг другу. И так это ловко у них получалось! Первый бросает второму, а второй в это же время первому, так что тарелки все время летят от одного человека к другому. И ни одной тарелки не разбили!
И еще там в цирке был клоун в голубых брюках, рыжем пиджаке и зеленой шляпе, и нос у него был красный-прекрасный. Он вовсе не был артистом, но делал то же, что и артисты, только гораздо хуже. После жонглеров он тоже вышел, принес три полена и стал ими жонглировать. Но кончилось это плохо: он треснул сам себя поленом по голове и ушел. После медведей, которые катались на велосипедах, он тоже выехал на велосипеде, но тут же наехал на барьер, и весь его велосипед рассыпался на кусочки. А когда выступали наездники на лошадях, он стал просить, чтоб ему дали лошадь. Только он боялся свалиться с нее и попросил, чтоб его привязали канатом. И вот сверху спустили канат и привязали его позади за пояс. Тогда он стал взбираться на лошадь по хвосту, но лошадь брыкалась. Он хотел побежать за лестницей, чтоб взобраться на лошадь по лестнице, но не смог, так как был сзади канатом привязан. Тогда он стал просить наездника, чтобы он подсадил его на лошадь. Наездник стал подсаживать его, но он никак не мог вскарабкаться.
– Ну, садись же! Садись на лошадь! – кричал наездник и изо всех сил толкал его снизу, а он, вместо того чтоб сесть на лошадь, как-то умудрился сесть на наездника.
И вот наездник бегает по всему цирку, а этот чудак в рыжем пиджаке на нем верхом сидит. Наездник кричит:
– Я ведь тебе говорил – садись на лошадь, а ты куда сел? Ты мне на шею сел!
Наконец его сняли с наездника и посадили на лошадь. Лошадь поскакала, а он свалился с нее, но не упал на землю, а принялся летать по цирку, расставив руки и ноги, потому что был сверху к канату привязан. Словом, это был такой человек: он все пытался делать, но ничего у него не выходило. Он только людей даром смешил! Умора!
Самым последним номером был «Шар смелости». Во время перерыва мы никуда не ходили, а сидели на своих местах и видели все приготовления. Сначала внизу собрали из отдельных частей верхнюю половину шара. Она была такая громадная, что под ней свободно могло бы поместиться человек двадцать и еще, наверно, место осталось бы. Потом верхнюю половину шара подняли кверху, под купол цирка, а внизу собрали такую же огромную нижнюю половину шара. В нее положили два мотоцикла и два велосипеда и все это подняли вверх, где нижняя половина соединилась с верхней. Внизу шара имелся люк, и из люка вниз спускалась веревочная лестница.
Перерыв кончился. Публика снова уселась на свои места.
Снова зажегся яркий свет, и на арену вышли мотоциклисты. Они были одеты в голубые комбинезоны, на головах у них были надеты круглые шлемы, как у летчиков. Их было трое: двое мужчин и одна женщина. Они остановились у края арены, и публика приветствовала их громкими аплодисментами. Заиграла музыка, и вот они, гордые и смелые, с высоко поднятыми головами, стали подниматься по лестнице вверх. Один за другим они пролезли в люк и очутились внутри шара. Потом они закрыли люк изнутри крышкой и стали ездить внутри шара на велосипедах. Пока велосипед ездил с небольшой скоростью, он описывал небольшие круги внизу шара, но как только скорость становилась больше, он взбирался все выше и выше, и велосипедисты вместе с велосипедом держались наклонно, так что непонятно было, почему они не падают. Они ездили по одному и по двое, а женщина ездила не хуже мужчин.
Потом один мотоциклист завел мотоцикл. Раздался грохот, будто пулеметная пальба. Мотоциклист понесся внутри шара с огромной скоростью. Он пролетал со своим мотоциклом то внизу, то вверху, причем мотоцикл становился почти вверх ногами, и мы все время боялись, что мотоциклист вывалится из своего сиденья, но он не вывалился. Другой мотоциклист тоже завел свой мотоцикл и помчался вдогонку за первым мотоциклистом. Шум, грохот, пальба! Второй мотоциклист опустился на дно шара и остановился, а первый мотоциклист продолжал ездить в верхней половине шара.
И вот нижняя половина шара отделилась и стала медленно опускаться вниз, а мотоциклист так и остался ездить вверху. Когда нижняя половина шара опустилась на землю, мотоциклист и девушка вылезли из нее, а первый мотоциклист все ездил и ездил в верхней половине шара. Если бы он остановился, центробежная сила пропала бы – и он упал бы вниз. Теперь для него единственным спасением было все мчаться и мчаться с прежней скоростью. Затаив дыхание мы смотрели на него. Вдруг я подумал: «А что, если мотор испортится или остановится хотя бы на минуту? Скорость сейчас же уменьшится, и мотоцикл со страшной силой вылетит из шара и полетит вниз».
По временам мне казалось, что мотор начинает делать перебои, но все обошлось благополучно. Нижнюю половину шара снова подняли вверх. Мотоциклист замедлил скорость и стал кружиться в нижней половине шара. Круги становились все меньше и меньше. Наконец он остановился, вылез из люка и стал спускаться по лестнице вниз. Тысячи зрителей приветствовали его аплодисментами.
На этом представление кончилось, и было так жалко уходить из цирка, так жалко, что и сказать нельзя. Я решил: когда вырасту, буду каждый день ходить в цирк. Ну если не каждый день, то хотя бы раз в неделю. Мне это никогда не надоест!
Глава двенадцатая
На другой день я зашел к Шишкину, чтоб узнать, чем кормить ежа, потому что еж раздумал погружаться в спячку. Ночью он проснулся и принялся бродить по комнате, шуршал какими-то бумажками и никому не давал спать. Когда я пришел, то увидел, что Шишкин лежит на полу посреди комнаты, ноги задрал кверху, а в руках у него чемодан.
– Ты чего на полу валяешься? – спрашиваю я.
– Это я решил сделаться эквилибристом, – говорит он. – Сейчас буду вертеть чемодан ногами.
Он поднял чемодан руками и старался подхватить его ногами, но это ему никак не удавалось.
– Мне бы, – говорит, – его только ногами подхватить. Ну-ка, помоги, возьми чемодан и положи мне на ноги.
Я взял чемодан и положил ему на ноги. Некоторое время он держал его на вытянутых ногах, потом стал потихоньку поворачивать, но тут чемодан соскользнул и полетел на пол.
– Нет, – сказал Шишкин, – так ничего не выйдет! Надо разуться, а то ботинки слишком скользкие.
Он снял ботинки, снова лег на спину и поднял ноги кверху. Я опять положил ему чемодан на ноги.
– Вот теперь, – сказал Костя, – совсем другое дело! Он опять стал пытаться повернуть его ногами, но тут чемодан снова полетел вниз и больно стукнул его по животу.
Шишкин схватился за живот и заохал.
– Ох, ох! – говорит. – Так и убиться можно! Этот чемодан слишком тяжелый. Лучше я что-нибудь другое буду вертеть, полегче.
Стали мы искать что-нибудь другое, полегче. Ничего не нашли. Тогда он снял с дивана подушку, свернул ее, как будто трубку, и обвязал потуже веревкой, словно любительскую колбасу.
– Ну вот, – говорит, – подушка мягкая, если и упадет, то не ударит больно.
Он снова лег на пол, и я положил ему эту «колбасу» на ноги. Он опять попробовал ее вертеть, но у него все равно ничего не вышло.
– Нет, – сказал он, – лучше я сначала буду учиться ловить ее ногами, как тот эквилибрист в цирке. Ты бросай ее издали, а я буду подхватывать на ноги.
Я взял подушку, отошел в сторону – и как брошу! Подушка полетела, но не попала ему на ноги, а попала по голове.
– Ах ты, растяпа! – закричал Шишкин. – Не видишь, куда бросаешь? На ноги надо бросать!
Тогда я взял подушку и бросил ему на ноги. Костя задрыгал ногами, но все-таки не смог ее удержать. Так я бросал подушку раз двадцать, и ему удалось один раз ее подхватить ногами и удержать.
– Видал? – закричал он. – Прямо как у настоящего циркача получилось!
Я тоже решил попробовать, лег на спину и стал ловить подушку ногами. Только мне ни разу не удалось ее поймать. Наконец я выбился из сил. Спина у меня болела, будто на мне кто-нибудь верхом ездил.
– Ну ладно, – говорит Шишкин, – на сегодня упражнений с подушкой довольно. Давай упражняться со стульями.
Он сел на стул и стал постепенно наклонять его назад, чтоб он стоял только на двух задних ножках. Вот он наклонял его, наклонял, наконец стул опрокинулся, Шишкин полетел на пол и больно ушибся. Тогда я стал пробовать, не получится ли что-нибудь у меня. Но у меня получилось то же самое: я полетел вместе со стулом на пол и набил на затылке шишку.
– Нам еще, видно, рано такие упражнения делать, – сказал Костя. – Давай лучше учиться жонглировать.
– Чем же мы будем жонглировать?
– А тарелками, как жонглеры в цирке. Он полез в шкаф и достал две тарелки.
– Вот, – говорит, – ты бросай мне, а я тебе. Как только я брошу свою тарелку, ты сейчас же бросай свою мне, а мою лови, а я твою буду ловить.
– Постой, – говорю, – мы ведь сразу разобьем тарелки, и ничего не выйдет.
– Это правда, – говорит он. – Давай вот что: будем сначала одной тарелкой жонглировать. Когда научимся как следует одну ловить, начнем двумя, потом тремя, потом четырьмя, и так у нас пойдет, как у настоящих жонглеров.
Мы стали швырять одну тарелку и сейчас же ее разбили. Потом взяли другую и тоже разбили.
– Нет, это не годится, – сказал Шишкин. – Так мы перебьем всю посуду, и ничего не выйдет. Надо достать что-нибудь железное.
Он разыскал на кухне небольшой эмалированный тазик. Мы стали жонглировать этим тазиком, но нечаянно попали в окно. Еще хорошо, что мы совсем не высадили стекло – на нем только получилась трещина.
– Вот так неприятность! – говорит Костя. – Надо что-нибудь придумать.
– Может быть, заклеить трещину бумагой? – предложил я.
– Нет, так еще хуже будет. Давай вот что: вынем в коридоре стекло и вставим сюда, а это стекло вставим в коридоре. Там никто не заметит, что оно с трещиной.
Мы отковыряли от окна замазку и стали вытаскивать стекло с трещиной. Трещина увеличилась, и стекло распалось на две части.
– Ничего, – говорит Шишкин. – В коридоре может быть стекло из двух половинок.
Потом мы пошли и вынули стекло из окна в коридоре, но это стекло оказалось немного больше и не влезало в оконную раму в комнате.
– Надо его подрезать, – сказал Шишкин. – Не знаешь, у кого-нибудь из ребят есть алмаз? Я говорю:
– У Васи Ерохина есть, кажется. Пошли мы к Васе Ерохину, взяли у него алмаз, вернулись обратно и стали искать стекло, ко его нигде не было.
– Ну вот, – ворчал Шишкин, – теперь стекло потерялось!
Тут он наступил на стекло, которое лежало на полу. Стекло так и затрещало.
– Это какой же дурак стекло положил на пол? – закричал Шишкин.
– Кто же его положил? Ты же и положил, – говорю я.
– А разве не ты?
– Нет, – говорю, – я к нему не прикасался. Не нужно тебе было его на пол класть, потому что на полу оно не видно и на него легко наступить.
– Чего ж ты мне этого не сказал сразу?
– Я и не сообразил тогда.
– Вот из-за твоей несообразительности мне теперь от мамы нагоняй будет! Что теперь делать? Стекло разбилось на пять кусков. Лучше мы его склеим и вставим обратно в коридор, а сюда вставим то, что было, – все-таки меньше кусков получится.
Мы начали вставлять стекло из кусков в коридоре, но куски не держались. Мы пробовали их склеивать, но было холодно, и клей не застывал. Тогда мы бросили это и стали вставлять стекло в комнате из двух кусков, но Шишкин уронил один кусок на пол, и он разбился вдребезги. Как раз в это время вернулась с работы мать, Шишкин стал ей рассказывать, что тут у нас случилось.
– Ты прямо хуже маленького! – сказала мать. – Тебя страшно одного оставлять дома! Того и гляди, чего-нибудь натворишь!
– Я вставлю, вот увидишь, – говорил Шишкин. – Я все из кусочков сделаю.
– Еще чего не хватало! Из кусочков! Придется позвать стекольщика. А это еще что за осколки?
– Я тарелку разбил, – ответил Шишкин.
– О‑о-о! – только сказала мама. Она закрыла глаза и приложила обе руки к вискам, будто у нее заболела вдруг голова.
– Убери это сейчас же – и марш заниматься! Уроки небось и не думал учить! – закричала она.
Мы с Костей собрали с полу осколки и отнесли их в мусорный ящик.
– У тебя мама все-таки добрая, – сказал я Косте. – Если бы я такого натворил дома, то разговору было бы на целый день.
– Не беспокойся, еще разговор будет. Вот подожди, скоро придет тетя Зина, она мне намылит голову. Еще и тебе попадет.
Я не стал дожидаться прихода тети Зины и поскорее ушел домой.
На другой день я встретил Шишкина на улице утром, и он сказал, что не пойдет в школу, а пойдет в амбулаторию, потому что ему кажется, будто он болен. Я пошел в школу, и, когда Ольга Николаевна спросила, почему нет Шишкина, я сказал, что он сегодня, наверно, не придет, так как я его встретил на улице и он сказал, что идет в амбулаторию.
– Проведай его после школы, – сказала Ольга Николаевна.
В этот день у нас был диктант. После школы я сделал сначала уроки, а потом пошел к Шишкину. Его мама уже вернулась с работы. Шишкин увидел меня и стал делать какие-то знаки: прижимать палец к губам, мотать головой. Я понял, что мне нужно о чем-то молчать, и вышел с ним в коридор.
– Ты не говори маме, что я не был сегодня в школе, – сказал он.
– А почему ты не был? Что тебе в амбулатории сказали?
– Ничего не сказали.
– Почему?
– Да там врач какой-то бездушный. Я ему говорю, что я болен, а он говорит: «Нет, ты здоров». Я говорю: «Я сегодня так чихал, что у меня чуть голова не оторвалась», а он говорит: «Почихаешь и перестанешь».
– А может, ты и на самом деле не был болен?
– Да, ну конечно, не был.
– Зачем же в амбулаторию пошел?
– Ну, я утром сказал маме, что болен, а она говорит:
«Если болен, то иди в амбулаторию, а я больше не буду тебе в школу записок писать, ты и так много пропустил».
– Зачем же ты сказал маме, что болен, если вовсе не болен?
– Ну как ты не понимаешь? Ведь Ольга Николаевна сказала, что сегодня будет диктант. Чего же я пойду? Очень мне интересно опять получить двойку!
– Что же ты теперь будешь делать? Ведь завтра Ольга Николаевна спросит, почему ты не пришел в школу.
– Не знаю, что и делать! Я, наверно, и завтра не пойду в школу, а если Ольга Николаевна спросит, то скажи, что я заболел.
– Слушай, – говорю я, – это ведь глупо. Лучше ты признайся маме и попроси, чтоб она написала записку.
– Ну уж не знаю… Мама сказала, что больше не будет писать никаких записок, чтоб я не приучался прогуливать.
– Что же, – говорю я, – если такой случай вышел. Ты и завтра не пойдешь и послезавтра – что же это получится? Скажи маме, она поймет.
– Ну ладно, я скажу, если смелости хватит.
На следующий день Шишкин снова не пришел в школу, и я понял, что у него не хватило смелости признаться маме.
Ольга Николаевна спросила меня о Шишкине, я сказал, что он болен, а когда она спросила, чем он болен, я придумал, что у него грипп.
Вот как по милости Шишкина я сделался обманщиком. Но не мог же я наябедничать на него, если он просил никому не говорить!
Глава тринадцатая
После занятий я зашел к Шишкину и рассказал, что мне пришлось из-за него Ольге Николаевне соврать, а он стал рассказывать, как бродил целое утро по городу, вместо того чтоб пойти в школу, потому что побоялся признаться маме, а без записки тоже не мог явиться в школу.
– Что же ты будешь делать? – спрашиваю я. – Ты и сегодня не скажешь маме?
– Не знаю. Я вот что думаю: лучше я в цирк поступлю.
– Как – в цирк? – удивился я.
– Ну, поступлю в цирк и буду артистом.
– Что же ты будешь делать в цирке?
– Ну, что… Что и все артисты делают. Выучу Лобзика считать и буду с ним выступать, как та артистка.
– А вдруг тебя не возьмут?
– Возьмут.
– А как же со школой?
– В школу совсем не буду ходить. Только ты, пожалуйста, не выдавай меня Ольге Николаевне, будь другом!
– Так мама ведь все равно в конце концов узнает, что ты в школу не ходишь.
– Ну пока она не узнает, а потом, когда я поступлю в цирк, я сам ей скажу, и все будет в порядке.
– А вдруг тебе не удастся выучить Лобзика?
– Удастся. Почему не удастся? Вот мы сейчас попробуем. Лобзик! – закричал он.
Лобзик подбежал и принялся юлить вокруг. Шишкин достал из буфета сахарницу и сказал:
– Сейчас, Лобзик, ты будешь учиться считать. Если будешь считать хорошо, получишь сахару. Будешь плохо считать – ничего не получишь.
Лобзик увидел сахарницу и облизнулся.
– Погоди облизываться. Облизываться будешь потом. Шишкин вынул из сахарницы десять кусков сахару и сказал:
– Будем сначала учиться считать до десяти, а потом и дальше пойдем. Вот у меня десять кусков сахару. Смотри, я буду считать, а ты постарайся запомнить.
Он начал выкладывать перед Лобзиком на табурет куски сахару и громко считал: «Один, два, три…» И так до десяти.
– Вот видишь, всего десять кусков. Понял? Лобзик завилял хвостом и потянулся к сахару. Костя щелкнул его по носу и сказал:
– Научись сначала считать, а потом тянись к сахару! Я говорю:
– Как же он может научиться сразу до десяти? Этому и ребят не сразу учат.
– Тогда, может, научить его сначала до пяти или до трех?
– Конечно, – говорю, – до трех ему будет легче.
– Ну, давай тогда сначала до двух, – говорит Костя – Ему тогда совсем легко будет.
Он убрал со скамейки весь сахар и оставил только два кусочка.
– Смотри, Лобзик, сейчас здесь только два куска – один, два, вот видишь? Если я заберу один, то останется один. Если положу обратно, то опять будет два. Ну, отвечай, сколько здесь сахару?
Лобзик привстал, помахал хвостом, потом сел на задние лапы и облизнулся.
– Как же ты хочешь, чтоб он ответил? – сказал я. – Кажется, он у нас еще не выучился говорить по-человечески.
– Зачем по-человечески? Пусть говорит по-собачьи, как та собака в цирке. Гау! Гау! Понимаешь, Лобзик, «гау-гау» – значит «два». Ну, говори «гау-гау»!
Лобзик молча поглядывал то на меня, то на Шишкина.
– Ну, чего же ты молчишь? – сказал Шишкин. – Может быть, не хочешь сахару?
Вместо ответа Лобзик снова потянулся к сахару.
– Нельзя! – закричал Шишкин строго. Лобзик в испуге попятился и принялся молча облизываться.
– Ну, говори «гау-гау»! Говори «гау-гау»! – приставали мы к нему оба.
– Не понимает! – воскликнул с досадой Шишкин. – Надо его как-нибудь раззадорить. Слушай, сейчас я буду дрессировать тебя, а он пусть смотрит и учится.
– Как это ты будешь дрессировать меня? – удивился я.
– Очень просто. Ты становись на четвереньки и лай по-собачьи. Он посмотрит на тебя и выучится.
Я опустился рядом с Лобзиком на четвереньки.
– Ну-ка, отвечай: сколько здесь сахару? – спросил меня Шишкин.
– Гау! Гау! – ответил я громко.
– Молодец! – похвалил меня Шишкин и сунул мне в рот кусок сахару.
Я принялся грызть сахар и нарочно громко хрустел, чтоб Лобзику стало завидно. А Лобзик с завистью смотрел на меня, и у него даже потекли слюнки.
– Ну, смотри, Лобзик, теперь здесь остался один кусок сахару. Гау – один. Понимаешь? Ну, отвечай: сколько здесь сахару?
Лобзик нетерпеливо фыркнул, зажмурился и стал стучать по полу хвостом.
– Ну отвечай, отвечай! – твердил Шишкин.
Но Лобзик никак не мог догадаться, что ему нужно лаять.
– Эх ты, бестолковый! – сказал ему Шишкин и снова обратился ко мне: – Ну, отвечай ты!
– Гау! – закричал я, и опять кусок сахару очутился у меня во рту.
Лобзик только облизнулся и фыркнул.
– Сейчас мы его раззадорим, – сказал Шишкин. Он снова положил на табурет кусок сахару и сказал:
– Вот, кто первый ответит, тот и получит сахар. Ну, считайте.
– Гау! – закричал я.
– Вот молодец! – похвалил Шишкин. – А ты остолоп! Он взял кусок сахару, медленно поднес к носу Лобзика, пронес мимо и сунул мне в рот. Я опять громко зачавкал и захрустел сахаром. Лобзик облизнулся, чихнул и смущенно затряс головой.
– Ага, завидно стало! – обрадовался Шишкин. – Кто лает, тот и сахар получает, а кто не лает, тот сидит без сахару. Он снова положил перед Лобзиком кусок сахару и сказал:
– Считай теперь ты.
Лобзик облизнулся, затряс головой, встал, потом сел, фыркнул.
– Ну, считай, считай, иначе не получишь сахару! Лобзик как-то напрягся, подался назад и вдруг как залает.
– Понял! – закричал Шишкин и бросил ему кусок сахару.
Лобзик на лету подхватил сахар и проглотил в два счета.
– Ну-ка, считай еще раз! – закричал Шишкин.
– Гаф! – ответил Лобзик.
И снова кусок сахару полетел ему в рот.
– Ну-ка, еще разочек!
– Гаф!
– Понял! – обрадовался Шишкин. – Теперь у нас пойдет наука.
В это время вернулась мать Шишкина.
– Почему сахарница на столе? – спросила она.
– Это я взял немного сахару, чтоб выучить считать Лобзика.
– Еще что выдумал!
– Да ты только послушай, как он считает.
Шишкин положил перед Лобзиком кусок сахару и сказал:
– Ну-ка, скажи, Лобзик, маме, сколько здесь кусков сахару?
– Гаф! – ответил Лобзик.
– И это все? – спросила мама.
– Все, – сказал Шишкин.
– Не многому же он у вас научился!
– А что ты хочешь? Ведь Лобзик – не человек Сейчас он научился до одного считать, потом мы научим его до двух, потом – до трех, а там, глядишь, он и все цифры, выучит.
– Глядишь, придется мне от тебя сахарницу прятать, – сказала мама.
– Я ведь не для себя беру, – обиделся Шишкин. – Я для науки.
– «Для науки»! – усмехнулась мама. – А свои уроки ты сделал?
– Нет еще, сейчас буду делать.
– Ты ведь обещал, что к моему приходу у тебя всегда будут уроки сделаны.
– Будут, будут! Это я только сегодня забыл из-за Лобзика.
– Ну, смотри же! Если не будешь уроки делать вовремя, то не разрешу тебе брать сахар и сахарницу спрячу.
Мы с Костей засели делать уроки вместе, потому что он ведь даже не знал, что задано, а на другой день принялись продолжать обучение Лобзика.
– Надо учить его не только сахар считать, а чтоб он понимал цифры, – сказал Костя.
Мы взяли кусочек картона, написали на нем цифру «один» и показали Лобзику.
– Вот это, Лобзик, цифра один. Все равно что один кусок сахару, – сказал Шишкин. – Ну, говори: какая это цифра?
– Гаф! – ответил Лобзик.
– Молодец! Это он сразу понял, – обрадовался Шишкин. – Теперь перейдем к цифре два.
Он положил перед Лобзиком два куска и сказал:
– Считай!
– Гаф! – ответил Лобзик.
– Неправильно! Ты говоришь – один, а тут два. Что нужно ответить?
– Гаф! – снова ответил Лобзик.
– «Гаф»! – передразнил его Костя. – Где же тут «гаф», когда здесь «гаф-гаф»? У тебя на плечах что: голова или кочан капусты?
– Гаф! – ответил Лобзик.
– Затвердила сорока Якова одно про всякого! Где ты гут видишь один? – закричал Шишкин. Лобзик в испуге даже попятился.
– Ты не кричи, – говорю я. – С собакой надо вежливо обращаться, потому что она будет бояться и ничему не научится.
Шишкин снова принялся объяснять Лобзику, что один – это один, а два – это два.
– Ну, считай! – приказал он ему.
– Гаф! – снова тявкнул Лобзик.
– Еще раз! Еще! – подсказал я. Лобзик покосился на меня. Я закивал головой и заморгал глазами. Тогда он несмело тявкнул еще раз.
– Вот теперь – два! – обрадовался Шишкин и бросил ему кусок сахару. – Ну-ка, считай еще раз. Лобзик пролаял еще раз.
– Еще раз! Еще! – зашептал я снова.
– А ты не подсказывай ему! – говорит Шишкин. – Он сам должен знать. Отвечай, Лобзик! Лобзик пролаял еще раз.
– Правильно! – сказал Шишкин. – Только ты должен лаять два раза подряд.
Он снова заставил его считать. Лобзик и на этот раз пролаял раз, а потом увидел, что мы от него еще чего-то ждем, и пролаял второй раз. Постепенно мы добились, что он лаял два раза подряд, и перешли к цифре «три». Занятия пошли так успешно, что в этот день мы выучили все цифры до десяти, но когда стали на другой день повторять, то оказалось, что у Лобзика все в голове перепуталось. Когда показывали ему цифру «три», он отвечал, что это четыре, или пять, или десять. Когда показывали десять, он говорил, что это два, короче говоря – молол разную чепуху. Костя злился, кричал на Лобзика и воображал, что это он назло ему отвечает неправильно. Иногда Лобзик отвечал правильно, но, наверно, это получалось случайно, а Костя говорил:
– Вот видишь, ответил правильно – значит, знает, какая это цифра, а спроси его в другой раз, ни за что не ответит. Такой прохвост!
Он подозревал, что Лобзику просто надоело учиться и он нарочно дает неправильные ответы, чтоб к нему не приставали. Вот, например, Костя показывает ему цифру «пять», а Лобзик отвечает, что это четыре.
– Да не четыре, Лобзик, посмотри хорошенько, – говорит ласково Костя.
Лобзик снова отвечает, что это четыре.
– Ну, не глупи, Лобзик, ты же сам видишь, что это не четыре, – уговаривает его Костя.
«Четыре», – упрямо твердит Лобзик.
– Дурак! – начинает сердиться Костя. – Считай правильно, тебе говорят!
«Четыре», – отвечает Лобзик.
– Вот я дам тебе четыре раза по шее, тогда узнаешь, как злить человека! Вот скажи еще раз четыре, я тебе покажу!
«Четыре», – опять повторяет Лобзик.
– Ты видишь, что он со мной делает? – кипятится Костя. Он берет цифру «четыре» и показывает Лобзику:
– Ну, а это, по-твоему, какая цифра? Лобзик отвечает, что это пять.
– Вот видишь! – кричал Костя. – Когда ему показывали пять, так он все время твердил, что это четыре, а когда показали четыре, он говорит, что это пять! А ты говоришь, что он это не назло мне делает! Я знаю, почему он на меня злится. Утром я нечаянно наступил ему па лапу, так он запомнил и теперь мстит мне.
Я не знал, хитрил Лобзик или не хитрил, но было ясно, что из нашей дрессировки никакого толку не вышло. Может быть, мы с Шишкиным были плохие учителя, а может быть, сам Лобзик был никудышный ученик, не способный к арифметике.
– Может быть, лучше признаться маме да идти в школу? – сказал я Косте.
– Нет, нет! Я не могу! Теперь я уже столько прогулял. Мама как узнает, так и не знаю, что с нею будет. Шуточка дело! Если б я один день прогулял.
– Тогда, может быть, рассказать Ольге Николаевне и посоветоваться с ней? – предложил я.
– Нет, мне стыдно говорить Ольге Николаевне.
– Ну, если тебе стыдно, то, может быть, я расскажу ей?
– Ты? Выдавать меня пойдешь? Знать тебя не хочу больше!
– Зачем, – говорю, – выдавать? Вовсе я не собираюсь тебя выдавать. Ты сам говоришь, что тебе стыдно, ну я бы и сказал, чтоб тебе стыдно не было.
– «Стыдно не было»! – передразнил меня Шишкин. – Да мне в двадцать раз стыдней будет, если ты скажешь! Молчал бы лучше, если ничего не можешь придумать умней!
– Что же делать? – спрашиваю я. – С Лобзиком ничего не вышло. В цирк тебе все равно не поступить. Или ты, может быть, еще надеешься Лобзика выучить?
– Нет, на него я уже не надеюсь. По-моему, Лобзик – это или отчаянный плут, или круглый осел. Все равно из него никакого толку не будет. Мне надо другую собаку достать. Или вот что: лучше я акробатом стану.
– Как же ты акробатом станешь?
– Ну, буду кувыркаться и на руках ходить. Я уже пробовал, и у меня немножко получается, только я не могу все время вверх ногами стоять. Надо, чтоб сначала меня кто-нибудь за ноги держал, а потом я и сам смогу. Вот подержи меня за ноги, я попробую.
Он встал на четвереньки, я поднял его за ноги кверху, и он стал ходить па руках по комнате, но скоро руки у него устали и подогнулись. Он упал и ударился головой об пол.
– Это ничего, – сказал Шишкин, поднявшись и потирая ушибленную голову. – Постепенно руки у меня окрепнут, и тогда я смогу ходить без посторонней помощи.
– Но ведь па акробата долго учиться надо, – говорю я.
– Ничего, скоро зимние каникулы. Я как-нибудь дотяну до каникул.
– А после каникул что будешь делать? Ведь зимние каникулы скоро кончатся.
– Ну, а там как-нибудь дотяну до летних каникул.
– Это долго тянуть придется.
– Ничего.
Странный это был человек. На все у него был один ответ:
«Ничего». Стоило ему придумать какое-нибудь дело, и он уже воображал, что дело сделано. Но я‑то видел, что все это пустая затея и все его мечты через несколько дней разлетятся, как дым.
Глава четырнадцатая
Костины мама и тетя вовсе не догадывались, что он в школу не ходит. Когда его мама приходила с работы, она первым долгом проверяла его уроки, а у него все оказывалось сделано, потому что каждый раз я приходил к нему и говорил, что задано. Шишкин так боялся, чтоб мама не догадалась о его проделках, что стал делать уроки даже исправнее, чем когда ходил в школу. Утром он брал сумку с книжками и вместо школы отправлялся бродить по городу. Дома он не мог оставаться, так как тетя Зина занималась во второй смене и уходила в училище поздно. Но шататься без толку по улицам тоже было опасно. Однажды он чуть не встретился с нашей учительницей английского языка и поскорей свернул в переулок, чтоб она не увидела его. В другой раз он увидел на улице соседку и спрятался от нее в чужое парадное. Он стал бояться ходить по улицам и забирался куда-нибудь в самые отдаленные кварталы города, чтоб не встретить кого-нибудь из знакомых. Ему все время казалось, что все прохожие на улице смотрят на него и подозревают, что он нарочно не пошел в школу. Дни в это время были морозные, и шататься по улицам было холодно поэтому он иногда заходил в какой-нибудь магазин, согревался немножко, а потом шел дальше.
Я почувствовал, что все это получилось как-то нехорошо, и мне было не по себе. Шишкин ни на минуту не выходил у меня из головы. В классе пустое место за нашей партой все время напоминало мне о нем. Я представлял себе, как, пока мы сидим в теплом классе, он крадется по городу совсем один, точно вор, как он прячется от людей в чужие подъезды, как заходит в какой-нибудь магазин, чтоб погреться. От этих мыслей я стал рассеянным в классе и плохо слушал уроки. Дома я тоже все время думал о нем. Ночью никак не мог уснуть, потому что мне в голову лезли разные мысли, и я старался найти для Шишкина какой-нибудь выход. Если б я рассказал об этом Ольге Николаевне, то Ольга Николаевна сразу вернула бы Шишкина в школу, но я боялся что тогда все считали бы меня ябедой. Мне очень хотелось поговорить об этом с кем-нибудь, и я решил поговорить с Ликой.
* * *
– Слушай, Лика, – спросил я ее. – У вас в классе девчонки выдают друг дружку?
– Как это – выдают?
– Ну, если какая-нибудь ученица чего-нибудь натворит, то другая ученица скажет учительнице? Был у вас в классе такой случай?
– Был, – говорит Лика. – Недавно Петрова сломала на окне гортензию, а Антонина Ивановна подумала на Сидорову и хотела наказать ее, сказала, чтоб родители пришли в школу Но я видела, что это Петрова сломала гортензию, и сказала об этом Антонине Ивановне.
– Зачем же тебе нужно было говорить? Значит, ты у нас ябеда!
– Почему – ябеда? Я ведь правду сказала. Если б не я, Антонина Ивановна наказала бы Сидорову, которая совсем не виновата.
– Все равно ябеда, – говорю я. – У нас ребята не выдают друг друга.
– Значит, ваши ребята сваливают один на другого.
– Почему – сваливают?
– Ну, если б ты в классе сломал гортензию, а учительница подумала на другого…
– У нас, – говорю, – гортензии не растут. У нас в классе кактусы.
– Все равно. Если бы ты сломал кактус, а учительница подумала на Шишкина, и все бы молчали, и ты бы молчал, значит, ты свалил бы на Шишкина.
– А у Шишкина разве языка нету? Он бы сказал, что это не он, – говорю я.
– Он мог сказать, а его все-таки подозревали бы.
– Ну и пусть подозревали бы. Никто же не может доказать, что это он, раз это не он.
– У нас в классе не такой порядок, – говорит Лика. – Зачем нам, чтоб кого-нибудь напрасно подозревали? Если кто виноват, сам должен признаться, а если не признается, каждый имеет право сказать.
– Значит, у вас там все ябеды.
– Совсем не ябеды. Разве Петрова поступила честно? Антонина Ивановна хочет вместо нее другую наказать, а она сидит и молчит, рада, что на другую подумали. Если б я тоже молчала, значит, я с ней заодно. Разве это честно?
– Ну ладно, – говорю я. – Этот случай совсем особенный. А не было у вас такого случая, чтоб какая-нибудь девочка не явилась в школу, а дома говорила, что в школе была?
– Нет, у нас такого случая не было.
– Конечно, – говорю я. – Разве у вас такое может случиться! У вас там все примерные ученицы.
– Да, – говорит Лика, – у нас класс хороший. А разве у вас был такой случай?
– Нет. У нас, – говорю, – нет. Такого случая еще не было.
– А почему ты спрашиваешь?
– Так просто. Интересно узнать
Я перестал разговаривать с Ликой, а сам все время думал о Шишкине. Мне очень хотелось посоветоваться с мамой, но я боялся, что мама сейчас же сообщит об этом в школу, и тогда все пропало. А мама и сама заметила, что со мной что-то неладное творится. Она так внимательно поглядывала на меня иногда, будто знала, что я о чем-то хочу поговорить с ней. Мама всегда знает, когда мне нужно что-то сказать ей. Но она никогда не требует, чтоб я говорил, а ждет, чтоб я сам сказал. Она говорит: если что-нибудь случилось, то гораздо лучше, если я сам признаюсь, чем если меня заставят это сделать. Не знаю, как это мама догадывается. Наверное, у меня просто лицо такое, что на нем все как будто написано, что у меня в голове. И вот я так сидел и все поглядывал на маму и думал, сказать ей или не сказать, а мама тоже нет-нет да и взглянет на меня, словно ждет, чтоб я сказал. И мы долго так переглядывались с ней, и оба только делали вид: я – будто книжку читаю, а она – будто рубашку шьет. Это, наверно, было бы смешно, если бы мне в голову не лезли грустные мысли о Шишкине.
Наконец-таки мама не вытерпела и, усмехнувшись, сказала:
– Ну, докладывай, что у тебя там?
– Как это – докладывай? – притворился я, будто не понимаю.
– Ну говори, о чем хочешь сказать.
– О чем же я хочу сказать? Ни о чем я не хочу сказать, – стал я выкручиваться, а сам уже чувствую, что сейчас же обо всем расскажу, и рад, что мама сама об этом заговорила, так как легче сказать, когда тебя спрашивают, чем когда не спрашивают вовсе.
– Будто я не вижу, что ты о чем-то хочешь сказать! Ты уже три дня ходишь как в воду опущенный и воображаешь, что никто этого не замечает. Ну, говори, говори! Все равно ведь скажешь. Что-нибудь в школе случилось?
– Нет, не в школе, – говорю. – Да нет, – говорю, в школе.
– Что, опять небось получил двойку?
– Ничего я не получил.
– Что же с тобой случилось?
– Да это не со мной вовсе. Со мной ничего не случилось.
– С кем же?
– Ну, с Шишкиным.
– А с ним что же?
– Да не хочет учиться.
– Как – не хочет?
– Ну, не хочет, и все!
Тут я увидел, что проговорился, и подумал: «Батюшки, что же я делаю? А вдруг мама завтра же пойдет в школу и скажет учительнице!»
– Что же, Шишкин уроков не делает? – спросила мама. – Двойки получает?
Я увидел, что не совсем еще проговорился, и сказал;
– Не делает. По русскому у него двойка. Совсем не хочет по русскому учиться. У него с третьего класса запущено.
– Как же он в четвертый-то класс перешел?
– Ну, не знаю, – говорю. – Он к нам из другой школы перевелся. В третьем классе у нас не учился.
– Почему же учительница не обратит на него внимания? Его подтянуть надо.
– Так он, – говорю, – хитрый, как лисица! Что на дом задано, спишет, а когда в классе диктант или сочинение, не придет вовсе.
– А ты бы занялся с ним. Ведь думаешь о товарище, огорчаешься из-за него, а помочь не хочешь.
– Поможешь, – говорю, – ему, когда он сам не хочет заниматься!
– Ну, ты растолкуй ему, что учиться надо, подействуй на него. Ты вот сумел взяться за дело сам, а ему помощь нужна. Попадется ему хороший товарищ, и он выправится, и из него настоящий человек выйдет.
– Разве я ему плохой товарищ? – говорю я.
– Значит, не плохой, если думаешь о нем.
Мне стало очень стыдно, что я не сказал маме всей правды, поэтому я поскорей оделся и пошел к Шишкину, чтоб поговорить с ним как следует.
Странное дело! Почему-то именно в эти дни я по-настоящему подружил с Шишкиным и по целым дням думал о нем. Шишкин тоже изо всех сил привязался ко мне. Он скучал по школьным товарищам и говорил, что теперь, кроме меня, у него никого не осталось.
Когда я пришел, Костя, его мама и тетя Зина сидели за столом и пили чай. Над столом горела электрическая лампочка под большим голубым абажуром, и от этого абажура вокруг было как-то сумрачно, как бывает летним вечером, когда солнышко уже зашло, но на дворе еще не совсем стемнело. Все очень обрадовались моему приходу. Меня тоже усадили за стол и стали угощать чаем с баранками. Костина мама и тетя Зина принялись расспрашивать меня о моей маме, о папе, о том, где он работает и что делает. Костя молча слушал наш разговор. Он опустил в стакан с чаем половину баранки. Баранка постепенно разбухала в стакане и становилась все толще и толще. Наконец она раздулась почти во весь стакан, а Костя о чем-то задумался и как будто совсем позабыл о ней.
– О чем это ты там задумался? – спросила его мама.
– Так просто. Я думаю о моем папе. Расскажи о нем что-нибудь.
– Что же рассказывать? Я тебе уже все рассказала.
– Ну, ты еще расскажи.
– Вот любит, чтоб ему об отце рассказывали, а сам ведь и не помнит его, – сказала тетя Зина.
– Нет, я помню.
– Что же ты можешь помнить? Ты был грудным младенцем, когда началась война и твой папа ушел на фронт.
– Вот помню, – упрямо повторил Шишкин. – Я помню: я лежал в своей кроватке, а папа подошел, взял меня на руки, поднял и поцеловал.
– Не можешь ты этого помнить, – ответила тетя Зина. – Тебе тогда три недели от роду было.
– Нет. Папа ведь приходил с войны, когда мне уже год был.
– Ну, тогда он забежал на минутку домой, когда его часть проходила через наш город. Тебе про это мама рассказывала.
– Нет, я сам помню, – обиженно сказал Костя. – Я спал, потом проснулся, а папа взял меня на руки и поцеловал, а шинель у него была такая шершавая и колючая. Потом он ушел, и я больше ничего не помню.
– Ребенок не может помнить, что с ним в год было, – сказала тетя Зина.
– А я помню, – чуть ли не со слезами на глазах сказал Костя. – Правда, мама, я помню? Вот пусть мама скажет!
– Помнишь, помнишь! – успокоила его мама. – Уж если ты запомнил, что шинель была колючая, значит, все хорошо помнишь.
– Конечно, – сказал Шишкин. – Шинель была колючая, и я помню и никогда не забуду, потому что это был мой папа, который на войне погиб.
Шишкин весь вечер был какой-то задумчивый. Я так и не поговорил с ним, о чем хотел, и скоро ушел домой.
В эту ночь я долго не мог заснуть, все думал о Шишкине. Как было бы хорошо, если бы он учился исправно, ничего бы такого с ним не произошло! Вот я, например: я ведь тоже неважно учился, а потом взял себя в руки и добился чего хотел. Все-таки мне было, конечно, легче, чем Шишкину: у меня есть отец. Я всегда люблю брать с него пример. Я вижу, как он добивается чего-нибудь по своей работе, и тоже хочу быть таким, как он. А у Шишкина отца нет. Он погиб на войне, когда Костя был совсем маленьким. Мне очень хотелось помочь Косте, и я стал думать, что если бы начать с ним как следует заниматься, то он может выправиться по русскому языку, и тогда учеба у него пойдет успешно.
Я размечтался об этом и решил, что буду заниматься с ним каждый день, но тут же вспомнил, что о занятиях нечего и мечтать, пока он не вернется в школу. Я принялся думать, как бы уговорить его, но мне стало понятно, что уговоры тут не помогут, так как Костя слабохарактерный и теперь уже не решится признаться матери.
Мне стало ясно, что с Костей надо действовать твердо. Поэтому я решил зайти к нему завтра после школы и поговорить серьезно. Если он не захочет признаться матери и не вернется в школу по своей воле, то я пригрожу, что не буду больше врать Ольге Николаевне и не стану его выгораживать, потому что от этого для него получается только вред. Если он не поймет, что это для его же пользы, то пусть обижается на меня. Ничего! Я перетерплю, а потом он сам увидит, что я не мог поступить иначе, и мы снова подружимся с ним. Как только я это решил, у меня на душе стало легче, и мне сделалось стыдно, что я до сих пор ничего не сказал маме. Я тут же хотел встать и рассказать обо всем, но было поздно, и все давно уже спали.
Глава пятнадцатая
На другой день все вышло не так, как я ожидал. Я хотел после уроков зайти к Шишкину и в последний раз серьезно поговорить с ним. Но так как я всем говорил в школе, что Шишкин болен, то все наше звено решило навестить больного товарища. Я испугался и сейчас же после уроков помчался к Шишкину, чтоб предупредить его. Прибегаю к нему. Он увидел меня и говорит:
– Знаешь, я могу уже вверх ногами стоять! Нужно стать у стенки, перевернуться и держаться ногами за стенку.
– Некогда, – говорю, – сейчас вверх ногами стоять. Ложись скорее в постель.
– Зачем?
– Ну, ты ведь болен.
– Как – болен?
– Да я ведь всем говорил в школе, что ты болен. Сам ведь просил!
– Ну, просил!
– А теперь вот сейчас к тебе ребята придут.
– Да что ты!
Тут он моментально нырнул в постель, как был, в одежде, в ботинках, и накрылся одеялом.
– Что же мне говорить ребятам? – спрашивает.
– Что ж говорить? Говори, что болен. Больше говорить нечего.
Скоро пришли ребята. Они разделись в коридоре и вошли в комнату. Шишкин натянул одеяло до самого подбородка и с беспокойством поглядывал на ребят.
Ребята говорят:
– Здравствуй, Шишкин!
– Здравствуйте, ребята! – говорит он. А голос у него такой слабый-слабый! Ну прямо настоящий больной!
– Вот зашли тебя навестить, – сказал Юра.
– Спасибо, ребята, садитесь.
– Ну, как ты себя чувствуешь? – спросил Ваня.
– Да так…
– Лежишь?
– Лежу вот.
– Скучно тебе небось лежать все время? – спрашивает Леня.
– Скучно.
– Ты один весь день?
– Один. Мама на работе. Тетя в училище.
– Мы теперь будем к тебе приходить почаще. Ты извини, что мы не приходили: думали – ты скоро выздоровеешь и сам придешь.
– Ничего, ребята, ко мне Витя каждый день приходит.
– Мы к тебе тоже будем каждый день приходить, хочешь? – предложил Слава.
– Хочу, – говорит Шишкин. Не мог же он сказать – не хочу!
– А что у тебя болит? – спросил Юра.
– Все болит: и руки и ноги…
– Что ты? И даже ноги?
– Да. И голова.
– И что? Все время болит?
– Нет, не всё. То пройдет, пройдет, а потом как заболит, заболит!
– У нас в квартире у одного мальчика тоже вот так все болело. У него ревматизм был, – сказал Вася Ерохин. – Может быть, и у тебя ревматизм?
– Может быть, – говорит Шишкин.
– А доктор что говорит? – спросил Ваня.
– Ну, что он говорит!.. Что ему говорить? Ну, высунь язык, говорит. Скажи «а», говорит.
– А какая болезнь, не говорит?
– Болезнь эта вот… как ее?.. Апендикокс.
– Что же это за болезнь такая – апендикокс?
– Сам не знаю, – пожал Шишкин плечами.
– А чем тебя лечат?
– Лекарством.
– Каким?
– Не знаю, как называется. Микстура.
– Горькая или сладкая?
– Горькая! – сказал Шишкин и скорчил такую физиономию, будто на самом деле микстуры попробовал.
– Когда я был больной, мне тоже микстуру давали. Ох, и горькую! Я не хотел пить, – сказал Дима Балакирев.
– Я тоже не хочу.
– Нет, ты лучше пей, скорей поправишься.
– Я и то пью.
– Это ничего, что горькая, – сказал Леня. – Ты выпей микстуры, а потом ложку сахару в рот.
– Хорошо.
– А об уроках не беспокойся. Вот начнешь поправляться, мы тебе будем уроки носить и помогать учиться. Ты нагонишь.
– Ничего, нагоню! – говорит Шишкин.
Тут я заметил, что из-под одеяла высовывается нога Шишкина в ботинке. Я испугался. Думаю: вдруг кто-нибудь из ребят заметит! Но ребята разговаривали с ним и не замечали ботинка. Я подошел потихоньку и накрыл одеялом ботинок.
– Ну, ребята, – говорю, – он пока еще слабый, так что вы не утомляйте его. Идите себе домой.
Ребята стали прощаться:
– Ну, до свиданья. Выздоравливай, поправляйся. Мы к тебе завтра зайдем.
Ребята ушли. Шишкин вскочил с постели и запрыгал по комнате.
– Вот как все хорошо вышло! – закричал он. – Никто не догадался. Все в порядке!
– Ну, нечего радоваться! – сказал я. – Мне с тобой нужно серьезно поговорить.
– О чем?
– О том, что тебе надо в школу вернуться.
– Я и сам знаю, что надо, а как я теперь могу? Ты же сам видишь, что не могу.
– Ничего я не вижу! Я решил сегодня с тобой в последний раз поговорить: если ты завтра же не придешь в школу, то я сам скажу Ольге Николаевне, что ты не больной вовсе.
– Зачем? – удивился Костя.
– Затем, что тебе надо учиться, а не гулять. Все равно из тебя никакого акробата не выйдет.
– Почему – не выйдет? Посмотри, как я уже научился вверх ногами стоять!
Он подошел к стенке и стал вверх ногами. Тут отворилась дверь, и вошел Леня.
– Послушай, – говорит, – я тут свои перчатки забыл… А это что? Послушай, ты чего вверх ногами стоишь? Шишкин вскочил на ноги и растерянно остановился.
– Так вот ты какой больной! – воскликнул Леня.
– Честное слово, больной! – сказал Шишкин и покраснел как вареный рак.
Он заохал и заковылял к постели.
– Брось притворяться! Говорил, руки-ноги болят, а сам тут вверх ногами ходишь!
– Честное слово, болят!
– Ну, не ври, не ври! И когда ты успел одеться? Ты, значит, одетый в постели лежал?
– Ну ладно, я тебе открою секрет, только ты поклянись, что никому не скажешь.
– Зачем я буду клясться?
– Ну, тогда я ничего не скажу.
В это время в коридоре послышались чьи-то шаги. Дверь приоткрылась, в комнату заглянул Ваня и сказал:
– Ты скоро, Леня? Мы тут тебя все ждем.
– Ну-ка, иди сюда, Ваня! Он, оказывается, вовсе не болен!
– Не болен? – удивился Ваня и вошел в комнату.
– Кто не болен? – послышался из коридора голос Юры. Юра тоже вошел в комнату, а за ним остальные ребята.
– Да кто же еще! Вот он, Шишкин, не болен, – ответил Леня.
– Как так?
– Да вот так: вхожу, а он тут вверх ногами стоит!
– Что же это такое? – заговорили ребята. – Зачем ты нас обманывал?
– Это я так просто, ребята… – стал оправдываться Шишкин. – Я просто пошутил.
– Что это еще за шутки такие?
– Вот такие вот шутки! – развел Костя руками.
– Мы о нем беспокоились, – говорит Ваня, – всем звеном пришли навестить, а он тут, оказывается, шутки шутит: больным притворяться вздумал!
– Я больше не буду, ребята, вот увидите… – пролепетал Шишкин.
– А почему ты в школу не ходишь? – спросил Юра. – Ты нарочно решил притворяться больным, чтоб не ходить в школу!
– Я вам все расскажу, ребята, только вы не сердитесь. Я не хотел обмануть вас. Просто я решил циркачом стать.
– Как это – циркачом? – удивились все.
– Ну, поступлю в цирк и буду цирковым акробатом.
– Ты что, рехнулся?
– И ничуть не рехнулся.
– Кто же тебя возьмет в цирк? – спросил Ваня.
– А откуда, ты думаешь, цирковые артисты берутся?
– А почему же ты все-таки в школу не ходишь?
– Не хочу больше учиться. Я и так уже все знаю.
– Как – всё?
– Ну, все, что нужно цирковому артисту.
– Что же ты думаешь, цирковой артист может неучем быть?
– Почему – неучем? Кое-чему я уже выучился.
– «Выучился»! А пишешь с ошибками! Надо сначала окончить школу, а потом идти в цирковое училище. Цирковой артист тоже должен быть образованным. Ты бы сначала посоветовался с Ольгой Николаевной, – сказал Юра.
– Будто я не знаю, что Ольга Николаевна скажет! – ответил Шишкин.
– По-моему, ребята, он не дело затеял, – сказал Игорь. – Пусть перестанет выдумывать и является завтра в школу.
– А если завтра же не явится, мы скажем Ольге Николаевне, – заявил Юра.
– Ну, и будете ябеды! – ответил Шишкин.
– Не будем, – сказал Юра. – Раз мы предупредили тебя, значит не ябеды.
– Вот попробуй не приди завтра в школу, тогда узнаешь! – сказал Игорь. – Нечего тебе гулять. Надо учиться.
Тут снова послышались шаги в коридоре, и кто-то постучал в дверь. Шишкин, вместо того чтобы отворить, юркнул, как мышь, в постель и накрылся одеялом. Я отворил дверь и увидел Ольгу Николаевну.
– О, да тут все звено! – сказала Ольга Николаевна, входя в комнату. – Решили навестить больного товарища? Все ребята молчали, никто не знал, что сказать. Костя смотрел на Ольгу Николаевну во все глаза и изо всех сил натягивал на себя одеяло, будто решил закутаться в него с головой. Ольга Николаевна подошла к нему:
– Что ж это ты, Костя, расхворался у нас? Что у тебя болит?
– Ничего у него не болит! – сказал Юра. – Он вовсе не болен.
– Как – не болен?
– Ну, не болен, и все!
Шишкин увидел, что теперь уже все равно все пропало. Он вылез из-под одеяла, уселся на кровати и, свесив голову вниз, стал смотреть на пол. Ольга Николаевна обвела взглядом ребят, увидела меня и сказала:
– Почему же ты, Витя, говорил мне, что Костя болен? От стыда я не знал куда деваться.
– Почему же ты молчишь? Ты мне неправду сказал?
– Это не я сказал. Это он сказал, чтоб я сказал. Я и сказал.
– Значит, Костя просил тебя обмануть меня?
– Да, – пролепетал я.
– И ты обманул?
– Обманул.
– И ты думаешь, хорошо сделал?
– Но он ведь просил меня!
– Ты думаешь, что оказал ему хорошую услугу, обманывая меня?
– Нет.
– Почему же ты это сделал?
– Ну, я думал, что нельзя же товарища выдавать!
– Как – выдавать? Это врагу нельзя выдавать, а я разве ваш враг?
Я не знал, что сказать, и молча смотрел на пол.
– Не думала я, что мои ученики считают меня врагом! – сказала Ольга Николаевна.
– Мы не считаем, Ольга Николаевна, – сказал Ваня. – Разве мы считаем?
– Почему же никто не сказал мне?
– Да ведь никто и не знал. Мы только сегодня пришли, и вот все выяснилось.
– Ну хорошо, об этом поговорим после… Почему же ты, Костя, не ходил в школу?
– Я боялся, – пробормотал Костя.
– Чего ты боялся?
– Что вы записку от мамы спросите.
– Какую записку?
– Ну, записку, что я пропустил, когда был диктант.
– Почему же ты пропустил, когда диктант был?
– Боялся.
– Чего?
– Двойку получить боялся.
– Значит, ты нарочно пропустил, когда писали диктант, а потом не приходил, потому что у тебя не было записки от матери?
– Да.
– Что же ты думал делать, когда решил не ходить в школу? – спросила Ольга Николаевна.
– Не знаю.
– Но ведь какие-то планы у тебя были?
– Какие у меня планы!
– Он решил сделаться цирковым акробатом, – сказал Юра.
– В цирковую школу без семилетнего образования не берут. Да еще там надо лет пять учиться. Не мог же ты сразу стать цирковым артистом! – сказала Ольга Николаевна.
– Не мог, – согласился Шишкин.
– Вот видишь. Не обдумав ничего, так сразу и решил не ходить в школу. Разве так можно? Шишкин молчал.
– Что же ты теперь думаешь делать?
– Не знаю.
– А ты подумай.
Шишкин помолчал, потом взглянул на Ольгу Николаевну исподлобья и сказал:
– Я хочу вернуться в школу!
– Что ж, это самое лучшее, что ты мог придумать. Только условие: ты должен дать обещание, что исправишься и будешь хорошо учиться.
– Я теперь буду хорошо, – сказал Шишкин.
– Ну смотри. Завтра с утра приходи в школу, а я попрошу директора, чтоб он разрешил тебе продолжать учиться.
– Я приду.
Ольга Николаевна сказала нам всем, чтобы мы шли домой делать уроки.
Костя увидел, что она не собирается уходить, и сказал:
– Ольга Николаевна, я хочу вас попросить: не говорите маме!
– Почему? – спросила Ольга Николаевна.
– Я теперь буду хорошо учиться, только не говорите!
– Значит, ты хочешь продолжать обманывать маму? И еще хочешь, чтобы я тебе помогала в этом?
– Я не буду больше обманывать маму. Мне так не хочется огорчать ее!
– А если мама узнает, что мы с тобой вместе обманывали ее? Ведь она будет огорчена еще больше. Правда?
– Правда.
– Вот видишь, надо маме сказать. Но так как ты обещаешь взяться за учебу как следует, то я попрошу маму, чтобы она не очень сердилась на тебя.
– Я обещаю.
– Вот и договорились, – сказала Ольга Николаевна. – А сейчас бери книги, и будем заниматься.
Я ушел домой вместе с ребятами и не знаю, что было дальше.
Глава шестнадцатая
И вот на другой день Шишкин явился в класс. Он растерянно улыбался и смущенно поглядывал на ребят, но, видя, что его никто не стыдит, он успокоился и сел рядом со мной. Пустое место за нашей партой заполнилось, и я почувствовал облегчение, будто у меня в груди тоже что-то заполнилось и стало па свое место.
Ольга Николаевна ничего не сказала Шишкину, и уроки шли как обычно, своим порядком. На перемене к нам пришел Володя, ребята стали рассказывать ему про этот случай. Я думал, что Володя станет стыдить Шишкина, а Володя вместо этого стал стыдить меня.
– Ты ведь знал, что твой товарищ поступает неправильно, и не помог ему исправить ошибку, – сказал Володя. – Надо было поговорить с ним серьезно, а если бы он тебя не послушался, надо было сказать учительнице, или мне, или ребятам. А ты от всех скрывал.
– Будто я с ним не говорил! Я сколько раз ему твердил об этом! Что я мог сделать? Он ведь сам решил не ходить в школу.
– А почему решил? Потому что плохо учился. А ты помог ему учиться лучше? Ты ведь знал, что он плохо учится?
– Знал, – говорю. – Это все у него из-за русского языка. Он всегда у меня русский списывал.
– Вот видишь, если б ты по-настоящему заботился о своем друге, то не давал бы ему списывать. Настоящий друг должен быть требовательным. Какой же ты товарищ, если миришься с тем, что твой друг поступает нехорошо? Такая дружба ненастоящая – это ложная дружба.
Все ребята начали говорить, что я ложный друг, а Володя сказал:
– Давайте после уроков соберемся, ребята, и поговорим обо всем.
Мы решили собраться после уроков, но, как только занятия кончились, Ольга Николаевна подозвала меня и Шишкина и сказала:
– Костя и Витя, зайдите сейчас к директору. Он хочет поговорить с вами.
– А о чем? – испугался я.
– Вот он вам и расскажет о чем. Да вы идите, не бойтесь! – усмехнулась она.
Мы пришли в кабинет директора, остановились на пороге и сказали:
– Здравствуйте, Игорь Александрович!
Игорь Александрович сидел за столом и что-то писал.
– Здравствуйте, ребята! Заходите и садитесь вот на диван, – сказал он, а сам продолжал писать.
Но мы сесть боялись, потому что диван стоял очень близко возле директора. Стоять возле дверей казалось нам безопаснее. Игорь Александрович кончил писать, снял очки и сказал:
– Садитесь. Чего же вы стоите?
Мы подошли и сели. Диван был кожаный, блестящий. Кожа была скользкая, и я все время съезжал с дивана, потому что сел с краю, а усесться на нем как следует я не решался. И так я мучился в продолжение всего разговора – а разговор получился длинный! – и от такого сидения устал больше, чем если бы все это время стоял на одной ноге.
– Ну, расскажи, Шишкин, как это тебе пришло в голову стать прогульщиком? – спросил Игорь Александрович, когда мы сели.
– Не знаю, – замялся Шишкин.
– Гм! – сказал Игорь Александрович. – Кто же об этом может знать, как ты думаешь?
– Н‑не знаю, – снова пролепетал Шишкин.
– Может быть, по-твоему, я знаю?
Шишкин исподлобья взглянул на Игоря Александровича, чтоб узнать, не шутит ли он, но лицо у директора было серьезное. Поэтому он снова ответил:
– Не знаю.
– Что это, братец, у тебя на все один ответ: «Не знаю». Уж если разговаривать, то давай разговаривать серьезно. Ведь я не просто из любопытства спрашиваю тебя, почему ты не ходил в школу.
– Так просто. Я боялся, – ответил Шишкин.
– Чего же ты боялся?
– Я боялся диктанта и пропустил, а потом боялся, что Ольга Николаевна спросит записку от матери, вот и не приходил.
– Почему же ты боялся диктанта? Что он, такой страшный?
– Я боялся получить двойку.
– Значит, ты плохо готовился по русскому языку?
– Плохо.
– Почему же ты плохо готовился?
– Мне трудно.
– А по другим предметам тебе тоже трудно учиться?
– По другим легче.
– Почему же по русскому трудно?
– Я отстал. Не знаю, как слова писать.
– Так тебе подогнать надо, а ты, наверно, мало по русскому занимаешься?
– Мало.
– Почему же?
– Ну, он у меня не идет. Историю я прочитаю или географию – и уже знаю, а тут как напишу, так обязательно ошибки будут.
– Вот тебе и нужно побольше по русскому заниматься. Надо делать не только то, что легко, но и то, что трудно. Если хочешь научиться, то должен и потрудиться. Вот скажи, Малеев, – спросил Игорь Александрович меня, – ты ведь не успевал раньше по арифметике?
– Не успевал.
– А теперь стал лучше учиться?
– Лучше.
– Как же это у тебя вышло?
– А я сам захотел. Мне Ольга Николаевна сказала, чтоб я захотел, и я захотел и принялся добиваться.
– И добился-таки?
– Добился.
– Но тебе ведь сначала было, наверно, трудно?
– Сначала было трудно, а теперь мне совсем легко.
– Вот видишь, Шишкин! Возьми пример с Малеева. Сначала будет трудно, а потом, когда одолеешь трудность, будет легко. Так что берись за дело, и у тебя все выйдет.
– Хорошо, – сказал Шишкин, – я попробую.
– Да тут и пробовать нечего Надо сразу браться, и дело с концом.
– Ну, я попытаюсь, – ответил Шишкин.
– Это все равно что попробовать, – сказал Игорь Александрович. – Вот и видно, что у тебя нет силы воли. Чего ты боишься? У тебя есть товарищи. Разве они не помогут тебе? Ты, Малеев, ведь друг Шишкина?
– Да, – говорю я.
– Ну, так помоги ему подтянуться по русскому языку. Он очень запустил этот предмет, и ему одному не справиться.
– Это я могу, – говорю, – потому что сам был отстающим и теперь знаю, с какого конца нужно браться за это дело.
– Вот-вот! Значит, попробуешь? – улыбнулся Игорь Александрович.
– Нет, – говорю, – и пробовать не буду. Сразу начну заниматься с ним.
– Хорошо Это мне нравится, – сказал Игорь Александрович. – У тебя общественная работа есть?
– Нету, – говорю
– Вот это и будет твоя общественная работа на первое время Я советовался с Ольгой Николаевной, и она сказала, что ты сумеешь помочь Шишкину. Уж если ты сам себе сумел помочь, то и другому поможешь. Только отнесись к этому делу серьезно.
– Я буду серьезно, – ответил я.
– Следи, чтоб он все задания выполнял самостоятельно, вовремя, чтобы все доводил до конца. За него ничего делать не надо. Это будет плохая помощь с твоей стороны. Когда он научится работать сам, у него появится и сила воли и твоя помощь ему уже будет не нужна. Понятно это тебе?
– Понятно, – сказал я.
– А ты, Шишкин, запомни, что все люди должны честно трудиться.
– Но я ведь еще не трудюсь… не тружусь, – пролепетал. Шишкин.
– Как так не трудишься? А учеба разве не труд? Учеба для тебя и есть самый настоящий труд. Взрослые работают на заводах и фабриках, в колхозах и совхозах, строят электростанции, соединяют каналами реки и моря, орошают пустыни, насаждают леса. Видишь, как много дел!.. А дети учатся в школах, чтобы в будущем стать образованными и, в свою очередь, принести нашей родине как можно больше пользы. Разве ты не хочешь приносить родине пользу?
– Хочу.
– Вот видишь! Но, может быть, ты думаешь, достаточно сказать просто «хочу»? Надо быть стойким, упорным, без упорства ты ничего не достигнешь.
– Я буду теперь упорным.
– Вот хорошо, – сказал Игорь Александрович. – Надо быть честным. А разве ты честен? Ты обманывал мать, обманывал учительницу, обманывал своих товарищей.
– Я буду честным теперь.
– Постарайся, – сказал Игорь Александрович. – Но это еще не все. Надо любить своих товарищей.
– Разве я не люблю их? – удивился Шишкин.
– Где же любишь! Бросил их всех и решил без них обойтись. Разве это любовь?
– Но я ведь скучал по ним! – чуть ли не со слезами на глазах воскликнул Шишкин.
– Ну хорошо, что хоть скучал, но будет еще лучше, если ты будешь чувствовать, что без товарищей тебе не прожить, чтоб даже в голову не приходило бросать их.
– Я буду больше любить, – сказал Шишкин.
– Что же ты делал, голубчик, пока не ходил в школу? – спросил его Игорь Александрович.
Мы рассказали, как учили Лобзика считать. Игорь Александрович очень заинтересовался этим и подробно расспрашивал, как мы это делали.
– Да разве же можно научить собаку считать, как человека? – сказал наконец он.
– А как же считала та собака в цирке? Игорь Александрович засмеялся:
– Та собака вовсе не умела считать. Ее выучили только лаять и останавливаться по сигналу. Когда собака пролает столько раз, сколько нужно, дрессировщик дает ей незаметный для публики сигнал, и собака перестает лаять, а публике кажется, что собака сама лает, сколько нужно.
– Какой же сигнал дает дрессировщик? – спросил Костя.
– Ну, он незаметно кивает головой, или машет рукой, или потихоньку щелкает пальцами.
– Но наш Лобзик иногда считает правильно и без сигнала, – сказал Костя.
– Собаки очень наблюдательны, – сказал Игорь Александрович. – Ты сам незаметно для себя можешь кивать головой или делать какое-нибудь телодвижение как раз в то время, когда Лобзик пролает столько раз, сколько нужно, вот он подмечает это и старается угадать. Но так как твои телодвижения очень неуловимы, то он и ошибается часто. Для того чтобы он лаял правильно, приучите его к какому-нибудь определенному сигналу, например щелкайте пальцами.
– Я возьмусь за это, – сказал Костя. – Только я сначала подтянусь по русскому языку, а потом буду учить Лобзика.
– Вот правильно! А когда у нас будет вечер в школе, можете выступить со своей дрессированной собакой.
Мы так боялись, что Игорь Александрович придумает для нас какое-нибудь наказание, но он, видно, и не собирался наказывать нас, а хотел только объяснить нам, что надо учиться лучше.
Глава семнадцатая
Когда мы вышли из кабинета директора, то увидели, что Володя и все ребята дожидались нас в коридоре. Они моментально окружили нас и стали спрашивать:
– Ну что? Что вам Игорь Александрович сказал? Что вам будет?
– Простил. Теперь уже ничего не будет, – ответил я.
– Ну вот и хорошо! – обрадовался Толя. – Пойдемте в пионерскую комнату, поговорим. Надо поговорить.
Мы все гурьбой пошли в пионерскую комнату. Шишкин вошел последним.
– Иди, иди, Шишкин, не бойся! – говорил Юра. – Никто тебя ругать не будет.
Мы сели вокруг стола, и Володя сказал:
– Теперь поговорим, ребята, как помочь Шишкину. Он плохо учился и в конце концов дошел до того, что совсем перестал ходить в школу. Но мы все тоже виноваты в этом. Мы не обращали внимания на то, как он учится, и не помогли ему вовремя.
– Мы, конечно, тоже виноваты, – ответил Ваня. – Но и Шишкин должен понять, что надо учиться лучше. Если он не возьмется теперь, то это опять может плохо кончиться.
– Правда, Шишкин, только ты не обижайся, это опять может плохо кончиться, – сказал Юра. – А мы поможем тебе, честное слово! Все, что надо, сделаем.
– А как помогать? – сказал Леня Астафьев. – Мы ведь ему помощника выделили. Видно, Алик Сорокин плохо занимался с ним, раз такие результаты.
– Может быть, вы и не занимались совсем? – спросил Володя Алика.
– Почему – не занимались? Мы занимались! – ответил Алик.
– Сколько же раз вы занимались?
– Ну, я не помню. Раза два или три.
– Раза два или три? – удивился Юра. – Да ты должен был каждый день заниматься с ним, а не раза два или три. Сам обещал на собрании. Мы тебе это дело доверили, а ты не оправдал доверия!
– Как же я мог оправдать доверие? – сказал Алик. – К нему придешь, а его дома нет. Или придешь, а он говорит:
«Я сегодня не в настроении заниматься». Ну, я и бросил.
– Ишь ты, «бросил»! – сказал Юра. – Ты должен был на звене поставить вопрос, чтоб звено помогло. Шишкин у нас неорганизованный. Ты вот хорошо учишься, о себе позаботился, а о товарище позаботиться не захотел… Ну ладно, я тоже виноват, что не проверил тебя.
– Я теперь буду хорошо заниматься с Шишкиным, – сказал Алик. – Я шахматами увлекся, поэтому так и вышло.
– Нет, – ответил Володя, – больше мы тебе этого дела не доверим.
– Теперь я буду с Шишкиным заниматься, – сказал я. – Мне Игорь Александрович велел.
– Что ж, – сказал Володя, – раз тебя Игорь Александрович назначил, то и мы тебя на это дело выделим. Правда, ребята?
– Конечно, – согласились ребята. – Пусть занимается, раз Игорь Александрович сказал.
Сбор кончился, и мы вышли на улицу. Шишкин по дороге долго молчал, все думал о чем-то, потом сказал:
– Вот, оказывается, какой я скверный! Никакой у меня, силы воли нет! Ни к чему я не способный. Ничего из меня путного не выйдет!
– Нет, почему же? Ты не такой уж скверный, – попробовал я утешить его.
– Нет, не говори, я знаю. Только я сам не хочу быть таким Я исправлюсь. Вот ты увидишь. Честное слово, исправлюсь! Только ты уж, пожалуйста, помоги мне! Тебе ведь Игорь Александрович велел. Ты не имеешь нрава отказываться!
– Да я и не отказываюсь, – говорю я. – Только ты меня слушайся. Давай начнем заниматься с сегодняшнего же дня. После обеда я приду к тебе, и начнем заниматься.
После обеда я сейчас же отправился к Шишкину и еще на лестнице услышал собачий лай. Захожу в комнату, смотрю – Лобзик уже сидит на стуле и лает, а Костя щелкает пальцами у него перед самым носом.
– Это, – говорит, – я его приучаю к сигналу, как Игорь Александрович учил. Давай немножко позанимаемся с Лобзиком, а потом начнем делать уроки. Все равно ведь Лобзика учить надо.
– Э, брат, – говорю я, – сам сказал, что с Лобзиком начнешь заниматься после того, как исправишься по русскому языку, и уже передумал.
– Кончено! – закричал Шишкин. – Пошел вон, Лобзик! Вот, даже смотреть на него не стану, пока не исправлюсь по русскому. Скажи, что я тряпка, если увидишь, что я занимаюсь с Лобзиком. Ну, с чего мы начнем?
– Начнем, – говорю, – с русского.
– А нельзя ли с географии или хотя бы с арифметики?
– Нет, нет, – говорю. – Я уж на собственном опыте знаю, кому с чего начинать. Что нам по русскому задано?
– Да вот, – говорит, – суффиксы «очк» и «ечк», и еще мне Ольга Николаевна задала повторить правило на безударные гласные и сделать упражнение.
– Вот с этого ты и начнешь, – сказал я.
– Ну ладно, давай начнем.
– Вот и начинай. Или, может быть, ты думаешь, что я с тобой буду это упражнение делать? Ты все будешь делать сам. Я только проверять тебя буду. Надо приучаться все самому делать.
– Что ж, хорошо, буду приучаться, – вздохнул Шишкин и взялся за книгу.
Он быстро повторил правило и принялся делать упражнение. Это упражнение было очень простое. Нужно было списать примеры и вставить в словах пропущенные буквы. Вот Шишкин писал, писал, а я в это время учил географию и делал вид, что не обращаю на него внимания. Наконец он говорит:
– Готово!
Я посмотрел… Батюшки! У него там ошибок целая куча! Вместо «гора» он написал «гара», вместо «веселый» написал «виселый», вместо «тяжелый» – «тижелый».
– Ну-ну! – говорю. – Наработал же ты тут!
– Что, очень много ошибок сделал?
– Да не так чтоб уж очень много, а, если сказать по правде, порядочно.
– Ну вот! Я так и знал! Мне никогда удачи не будет! – расстроился Костя.
– Здесь не в удаче дело, – говорю я. – Надо знать, как писать. Ты ведь учил правило?
– Учил.
– Ну, скажи: что в правиле говорится?
– В правиле? Да я уж и не помню.
– Как же ты учил, если не помнишь?
Я заставил его снова прочитать правило, в котором говорится о том, что безударные гласные проверяются ударением, и сказал:
– Вот ты написал «тижелый». Почему ты так написал?
– Наверно, «тежелый» надо писать?
– А ты не гадай. Знаешь правило – пользуйся правилом. Измени слово так, чтоб на первом слоге было ударение.
Шишкин стал изменять слово «тяжелый» и нашел слово «тяжесть».
– А! – обрадовался он. – Значит, надо писать не «тижелый» и не «тежелый», а «тяжелый».
– Верно, – говорю я. – Вот теперь возьми и сделай упражнение снова, потому что ты делал его и совсем не пользовался правилом, а от этого никакой пользы не может быть. Всегда надо думать, какую букву писать.
– Ну ладно, в другой раз я буду думать, а сейчас пусть так останется.
– Э, братец, – говорю, – так не годится! Уж если ты обещал слушаться меня, слушайся.
Шишкин со вздохом принялся делать упражнение снова. На этот раз он очень спешил. Буквы у него лепились в тетрадке и вкривь и вкось, валились набок, подскакивали кверху и заезжали вниз. Видно было, что ему уже надоело заниматься. Тут к нам пришел Юра. Он увидел, что мы занимаемся, и сказал:
– А, занимаетесь! Вот это хорошо! Что вы тут делаете?
– Упражнение, – говорю. – Ему Ольга Николаевна задала.
Юра заглянул в тетрадь.
– Что же ты тут пишешь? Надо писать «зуб», а ты написал «зуп».
– А какое тут правило? – спрашивает Шишкин. – У меня правило на безударные гласные, а это разве безударная гласная?
– Тут, – говорю, – такое правило, что надо внимательно списывать. Смотри, что в книжке написано? «Зуб»!
– Тут тоже есть правило, – сказал Юра. – Надо изменить слово так, чтобы после согласной, которая слышится неясно, стояла гласная буква. Вот измени слово.
– Как же его изменить? «Зуб» так и будет «зуб».
– А ты подумай. Что у тебя во рту?
– У меня во рту зубы, и язык еще есть.
– Про язык тебя никто не спрашивает. Вот ты изменил слово: было «зуб», стало «зубы». Что слышится: «б» или «п»?
– Конечно, «б»!
– Значит, и писать надо «зуб». В это время пришел Ваня. Он увидел, что мы занимаемся, и тоже сказал:
– А, занимаетесь!
– Занимаемся, – говорим.
– Молодцы! За это вам весь класс скажет спасибо.
– Еще чего не хватало! – ответил Шишкин. – Каждый ученик обязан хорошо учиться, так что спасибо тут не за что говорить.
– Ну, это я так просто сказал. Весь класс хочет, чтоб все хорошо учились, а раз вы учитесь, значит, все будет хорошо.
Тут опять отворилась дверь, и вошел Вася Ерохин.
– А, занимаетесь! – говорит.
– Что это такое? – говорю я. – Каждый приходит и говорит: «А, занимаетесь», будто мы первый раз в жизни занимаемся, а до этого и не учились вовсе!
– Да я не про тебя говорю, я про Шишкина, – ответил Вася.
– А Шишкин что? Будто он совсем не учился? У него по всем предметам не такие уж плохие отметки, только по русскому…
– Ну, не сердись, я так просто сказал. Я думал, что он не занимается, а он занимается, вот я и сказал
– Мог бы хоть что-нибудь другое сказать. Будто других слов нет на свете!
– Откуда же я знал, что это вас так обидит? По-моему, ничего тут обидного нет.
Тут снова отворилась дверь, и на пороге появился Алик Сорокин.
– Сейчас тоже, наверно, скажет: «А, занимаетесь!» – прошептал Шишкин.
– А, занимаетесь! – улыбнулся Алик Сорокин. Мы все чуть «от смеха не лопнули.
– Чего вы смеетесь? Что я такого смешного сказал? – смутился Алик.
– Да ничего. Мы не над тобой смеемся, – ответил я. –А ты чего пришел?
– Так просто. Думал, может, моя помощь понадобится.
– Может быть, и шахматы с собой захватил? – спросил я.
– Ах я растяпа! Забыл шахматы захватить! Вот бы мы и сыграли тут!
– Нет, ты уж с шахматами лучше уходи отсюда подальше, – сказал Юра. – Пойдемте домой, ребята, не будем им мешать заниматься.
Ребята ушли.
– Это они приходили проверить, учимся мы или нет, – сказал Костя.
– Ну и что же? – говорю я. – Ничего тут обидного нет.
– Что же тут обидного? Я и не говорю. Ребята хорошие, заботливые.
– А Ольга Николаевна сказала маме, что ты не ходил в школу? – спросил я Костю.
– Сказала. И маме сказала и тете Зине сказала! Знаешь, какая мне за это была головомойка! Ох, и стыдили меня – век помнить буду! Но ничего! Я и то рад, что все теперь кончилось. Я так мучился, пока не ходил в школу. Чего я только не передумал за эти дни! Все ребята как ребята: утром встанут – в школу идут, а я как бездомный щенок таскаюсь по всему городу, а в голове мысли разные. И маму жалко! Разве мне хочется ее обманывать? А вот обманываю и обманываю и остановиться уже не могу. Другие матери гордятся своими детьми, а я такой, что и гордиться мною нельзя. И не видно было конца моим мучениям: чем дальше, тем хуже!
– Что-то я не заметил, чтоб ты так мучился, – говорю я.
– Да что ты! Конечно, мучился! Это я только так, делал вид, будто мне все нипочем, а у самого на душе кошки скребут!
– Зачем же ты делал вид?
– Да так. Ты придешь, начнешь укорять меня, а мне, понимаешь, стыдно, вот я и делаю вид, что все хорошо, будто все так, как надо. Ну, теперь конец этому, больше уже не повторится. Как будто буря надо мной пронеслась, а теперь все тихо, спокойно. Мне только надо стараться учиться получше.
– Вот и старайся, – сказал я. – Я и то уже начал стараться.
Глава восемнадцатая
На следующий день Ольга Николаевна проверила упражнение, которое задала Косте на дом, и нашла у него ошибки, каких даже я не заметил. Пропущенные буквы в словах он написал в конце концов правильно, потому что я за этим следил, а ошибок наделал просто при списывании. То букву пропустит, то не допишет слово, то вместо одной буквы другую напишет. Вместо «кастрюля» у него получилась «карюля», вместо «опилки» – «окилки».
– Это у тебя от невнимательности, – сказала Ольга Николаевна. – А невнимательность оттого, что еще нет, наверно, охоты заниматься как следует. Сразу видно, что ты очень торопишься. Спешишь, как бы поскорей отделаться от уроков.
– Да нет, я не очень спешу, – сказал Костя.
– Как же не спешишь? А почему у тебя буквы такие некрасивые? Посмотри: и косые и кривые, так и валятся на стороны. Если б ты старался, то и писал бы лучше. Если ученик делает урок прилежно, с усердием, то обращает внимание не только на ошибки, но и на то, чтобы было аккуратно, красиво написано. Вот и сознайся, что охоты у тебя еще нет.
– У меня есть охота, только вот не хватает силы воли, чтоб заставить себя усидчиво заниматься. Мне все хочется сделать поскорей почему-то. Сам не знаю почему!
– А потому, что ты еще не понял, что все достигается лишь упорным трудом. Без упорного труда не будет у тебя и силы воли и недостатков своих не исправишь, – сказала Ольга Николаевна.
С тех пор по Костиной тетрадке можно было наблюдать, как он боролся со своей слабой волей. Иногда упражнение у него начиналось красивыми, ровными буквами, на которые просто приятно было смотреть. Это значило, что вначале воля у него была сильная и он садился за уроки с большим желанием начать учиться как следует, но постепенно воля его слабела, буквы начинали приплясывать, налезать друг на дружку, валиться из стороны в сторону и постепенно превращались в какие-то непонятные кривульки, даже трудно было разобрать, что написано. Иногда получалось наоборот: упражнение начиналось кривульками. Сразу было видно, что Косте хотелось как можно скорее покончить с этим неинтересным делом, но, по мере того как он писал, воля его крепла, буквы становились стройнее, и кончалось упражнение с такой сильной волей, что казалось, будто начал писать один человек, а кончил совсем другой.
Но все это было полбеды. Главная беда была – это ошибки. Он по-прежнему делал много ошибок, и, когда был диктант в классе, он опять получил двойку.
Все ребята надеялись, что Костя на этот раз получит хоть тройку, так как все знали, что он взялся за учебу серьезно, и поэтому все были очень огорчены.
– Ну-ка, расскажи, Витя, как вы занимаетесь с Костей, – сказал Юра на перемене.
– Как занимаемся? Мы хорошо занимаемся
– Где же хорошо? Почему он до сих пор не исправился?
– Я же не виноват, что так получается! Я с ним каждый день занимаюсь.
– Почему же до сих пор нет никаких сдвигов?
– Я же не виноват, что нет сдвигов! Просто еще мало времени прошло.
– Как – мало времени? Уже две недели прошло. Просто ты не умеешь заставить Шишкина работать по-настоящему. Придется тебя сменить. Вот мы попросим Ольгу Николаевну, чтоб она выделила вместо тебя Ваню Пахомова. Он сумеет заставить Шишкина работать побольше.
– Ну, уж это извините! – говорю я. – Меня сам Игорь Александрович назначил. Вы не имеете права меня сменять.
– Ничего. Завтра мы поговорим с Ольгой Николаевной. Думаешь, если тебя Игорь Александрович назначил, так на тебя и управы нет?
– Уступи, Малеев, – скачал Леня Астафьев. – Все равно Ольга Николаевна сменит тебя. Ты не справился. Ваня лучше тебя будет заниматься
– Конечно, лучше, – сказал Юра.
– Это еще неизвестно, – говорю я.
– Ну что ты споришь? Сам видишь, какие результаты. Тут и другие ребята стали говорить, чтоб я уступил, но я заупрямился, как козел:
– Нет, пусть меня Ольга Николаевна сменяет, а сам я не уступлю.
– Ну и сменит тебя Ольга Николаевна. Тебе же хуже будет, – сказали ребята.
Не знаю, почему меня такое упрямство одолело. Я и сам чувствовал, что не надо настаивать, раз вышло такое дело и Шишкин получил двойку. Если б на моем месте был кто-нибудь другой, может быть, все было бы совсем не так, а иначе. Ну что ж, ничего не поделаешь!
В этот день мы с Шишкиным были очень огорчены.
– Мы занимаемся с тобой сегодня в последний раз. Завтра
Ольга Николаевна, наверно, сменит меня, – сказал я, когда пришел к нему после школы.
– А может быть, Ольга Николаевна и не сменит, – сказал Костя.
– Да нет, – говорю. – Все равно от меня, видно, мало толку. Наверно, я не умею учить. Мне только обидно, что Игорь Александрович будет недоволен. Я обещал ему подтянуть тебя, а тут видишь что вышло. И еще он сказал, что это мне как общественная работа. Значит, я с общественной работой не справился и не будет у меня никакого авторитета.
– А может быть, это вовсе и не ты виноват? Может быть, это я сам виноват? – сказал Костя. – Надо мне было лучше учиться. Ты знаешь, я тебе открою секрет: это я сам виноват. Я всегда спешил, торопился, вот и писал плохо и делал много ошибок. Если бы я не торопился, то учился бы лучше.
– Почему же ты торопился?
– Ну, я тебе открою секрет: мне хотелось каждый раз поскорей отделаться от уроков и начать учить Лобзика.
– И ты его учил?
– Учил.
– А, – говорю. – То-то у тебя буквы то такие, то этакие. Значит, ты писал, а сам думал не о том, что пишешь, а о своем Лобзике.
– Ну, вроде этого. Я и о том думал и о другом. Поэтому, наверно, такие результаты.
– Результаты… – говорю я, – никаких результатов нет. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Надо было одного зайца ловить.
– Ну, одного зайца-то я поймал.
– Какого?
– Ну, Лобзика-то я выучил. Сейчас увидишь. Лобзик, иди сюда!
Лобзик подбежал к нему. Костя показал ему табличку с цифрой «три».
– Ну-ка, скажи, Лобзик, какая это цифра? Лобзик пролаял три раза.
– А это?
Костя показал ему цифру «пять». Лобзик пролаял пять раз.
– Видишь, я потихоньку щелкаю пальцами, и он знает, когда нужно останавливаться.
– Как же ты этого добился? – спросил я.
– Сначала он никак не хотел понимать сигнала. Тогда я стал делать так: как только он пролает столько раз, сколько нужно, я бросаю ему кусочек сахару, колбасы или хлеба и в это же время щелкаю пальцами. Лобзик бросается ловить подачку и перестает лаять. Так я приучал его несколько дней, а потом попробовал только щелкать пальцами и ничего не давал. Лобзик все равно останавливался, так как привык в это время получать что-нибудь вкусное. Как услышит щелчок, так сейчас же перестает лаять и ждет, чтоб я чего-нибудь дал. Сначала я щелкал громко, но постепенно приучил к тихим щелчкам.
– Ну вот, – говорю, – значит, ты, вместо того чтоб самому выучиться, собаку выучил!
– Да, – говорит, – у меня все как-то шиворот-навыворот получается. Безвольный я человек! Ну, теперь уже все равно я его выучил и буду сам как следует заниматься. Больше ничто мне мешать не будет, вот увидишь!
– Увижу, – говорю. – Только теперь уже не я это увижу, а Ваня.
На другой день Костя собрал все упражнения, которые ему задавала на дом Ольга Николаевна, и понес в школу. Он показал все это Ольге Николаевне и сказал:
– Ольга Николаевна, вот это все упражнения, которые вы мне задавали. Вот тут вот, смотрите, хорошие, а вот тут плохие. Это, если я делал упражнение плохо, Витя заставлял меня переделывать снова. Скажите, разве он плохо со мной занимался?
– Я знаю, что Витя хорошо с тобой занимается, – сказала Ольга Николаевна. – Но ты и сам должен быть старательнее. Нужно отнестись к делу еще серьезнее. Витя тебе помогает, но учиться за тебя ведь он не может. Ты сам должен учиться.
– Я сам буду учиться, Ольга Николаевна, только разрешите, чтоб Витя помогал мне. Он уже столько времени потратил со мной.
– Хорошо, пусть помогает. Я вижу, что Витя добросовестно занимается с тобой. Скоро каникулы, вот вы вместе зайдите ко мне в первый же день. Я тебе дам задание на каникулы, а Вите расскажу, как заниматься с тобой, чтоб были лучшие результаты.
Мы обрадовались, когда услышали, что Ольга Николаевна согласна, чтоб я продолжал заниматься с Костей, а Костя сказал:
– Ольга Николаевна, у нас еще есть дрессированная собака Лобзик. Разрешите нам выступить с этой собакой на новогоднем вечере.
– А что ваша собака умеет делать?
– Она арифметику знает. Умеет считать, как та собака, которую мы видели в цирке.
– Кто же ее выучил?
– Мы сами.
– Ну хорошо. Приводите ее на новогодний вечер. Я думаю, всем ребятам будет интересно посмотреть на ученую собаку.
Глава девятнадцатая
Мне было очень досадно, что Костя без меня выучил Лобзика, так как мне тоже было интересно его учить, но теперь уже все равно ничего не поделаешь.
– Ты не горюй, – сказал Костя. – Когда-нибудь я встречу на улице еще какую-нибудь бездомную собаку и подарю тебе, тогда ты сам сможешь ее выучить.
– Самому мне неинтересно, – ответил я. – Я люблю все в компании делать, а один я возиться не стану.
– Ну, я ведь буду помогать тебе учить ее. Мы вместе будем дрессировать, и у тебя тоже будет ученая собака.
– Нет, – говорю, – это не годится. Как только появится новая собака, ты начнешь с ней заниматься, вместо того чтобы делать уроки. Лучше отложим это дело до лета.
– Ну ладно, если не хочешь, отложим. А ребятам скажем, что Лобзик – это наш с тобой ученик. Мы ведь начали учить его вместе. И будем вместе выступать с ним на новогоднем вечере.
– А вдруг он испугается, когда попадет на сцену? – говорю я. – Надо заранее приучить его, чтоб он не пугался людей.
– Как же его приучить?
– Надо повести его куда-нибудь, где побольше людей. Вот окончим уроки и поведем его к нам, покажем нашим, как он умеет считать.
Когда мы кончили делать уроки, Костя надел на Лобзика ошейник, привязал к ошейнику поводок, и мы отправились ко мне. Как раз в это время к нам пришли тетя Надя и дядя Сережа.
– Сейчас мы покажем вам ученую собаку, – сказал я. – Садитесь все на места, как в театре, и смотрите внимательно.
Мы посадили Лобзика на табурет. Костя достал из кармана таблички с цифрами и стал приказывать Лобзику считать. Лобзик лаял исправно. Тут мне в голову пришла замечательная мысль. Я не стал показывать Лобзику никакой цифры, а просто спросил:
– Ну-ка, Лобзик, сколько будет дважды два? Лобзик пролаял четыре раза. Конечно, я вовремя щелкнул пальцами.
Лика обрадовалась:
– Ого! Он даже таблицу умножения знает! Все хвалили нас за то, что мы так хорошо выучили собаку, а мы сказали, что будем выступать с Лобзиком на новогоднем вечере в школе.
– А у вас костюмы для выступления есть? – спросила Лика.
– Ну, уж будто нельзя без костюмов, – говорю я.
– Без костюмов неинтересно. – сказала Лика. – Лучше я вам разноцветные колпаки сделаю. Вы будете в этих колпаках, как два клоуна в цирке.
– Из чего же ты сделаешь колпаки?
– У меня разноцветная бумага есть. Я купила для елочных украшений.
– Ну, – говорю, – делай. С колпаками даже еще лучше будет.
– А нельзя ли Лобзику тоже сделать колпак? – спросил Костя.
– Нет, Лобзик будет очень смешной в колпаке. Лучше я ему сделаю воротничок из золотой бумаги.
– Ладно, Делай что хочешь, – говорю я.
– Теперь пойдем к Глебу Скамейкину, покажем ему, как наш Лобзик умеет считать, – предложил Костя.
Мы пошли к Глебу, от Глеба – к Юре, от Юры – к Толе Везде мы показывали искусство Лобзика, и за это Лобзик получал разные вкусные пещи Наконец мы отправились к Ване Пахомову, а у Ваниных родителей как раз были гости. Мы об радовались и решили, что у нас получится настоящая репетиция. Но напрасно мы радовались. Мы осрамились так, что не знали, куда от стыда деваться. Лобзик, вместо того чтоб отвечать правильно, начал путать и врать. Ни одной цифры не назвал правильно! Наконец совсем перестал отвечать. А мыто расхвастались, что привели ученую собаку-математика! Пришлось нам уйти с позором.
– Что же это случилось с ним? – сказал Костя, когда мы вышли на улицу.
Он дал Лобзику кусочек сахару, но Лобзик только разгрыз его и тут же выплюнул.
– Теперь понятно, – сказал я. – Мы просто обкормили его. Он объелся, поэтому и не старается отвечать правильно. Костя сказал:
– А вдруг во время представления в школе такая штука случится? Вот будет позор на всю школу! Может быть, нам лучше не выступать?
– Нет, – говорю, – теперь уже поздно отказываться. Раз взялись, так надо до конца довести.
Целый день накануне Нового года Костя волновался и все пытался дрессировать Лобзика.
– Оставь его в покое, – сказал я. – Опять ты ему надоешь за день, а когда будет нужно, он не захочет отвечать.
– Ладно, не буду его больше трогать. Иди отдыхай, Лобзик!
Мы оставили Лобзика в покое, а сами стали готовиться к представлению. Лика приготовила нам два колпака: мне – синий с серебряными звездочками, а Косте – зеленый с золотыми звездами. Кроме того, она сделала нам серебряные воротники и золотые манжеты на рукава. Мы все это примерили и остались очень довольны. Получилось прямо как два настоящих клоуна в цирке. Лобзику тоже был сделан золотой воротник.
Наконец время пришло, и мы отправились с Лобзиком в школу. Пока шло первое отделение концерта, мы сидели с Лобзиком в зале, чтоб он привыкал к публике, а потом пошли за кулисы и стали ждать своей очереди. Так мы посмотрели выступления всех ребят и ничего не пропустили. Мы заранее нарядились в свои колпаки, надели Лобзику на шею воротничок. И вот занавес открылся, и все увидели, как мы с Костей вышли на сцену в своих разноцветных колпаках. Костя шел впереди, за ним бежал на поводке Лобзик, а я шел сзади, и в руках у меня был чемоданчик, где лежали все вещи, которые мы приготовили для представления. Костя посадил Лобзика на табурет посреди сцены и сказал:
– Дорогие ребята, сейчас перед вами выступит ученая собака-математик, по имени Лобзик. Пока она выучилась считать до десяти, но она будет учиться дальше, и тогда мы вам ее снова покажем. Мы просим, чтоб вы вели себя тихо, потому что наш Лобзик выступает на сцене впервые и может испугаться шума.
Костя, видно, очень волновался, и голос у него дрожал. Я тоже волновался, и если бы мне пришлось говорить, то я, наверно, не смог бы сказать ни одного слова.
– Ну, начинаем представление, – закончил Костя.
Я достал из чемодана три деревянные чурки и поставил их рядышком на столе, так, чтоб было всем видно.
– Сейчас Лобзик сосчитает, сколько на столе чурок, – объявил Костя. – Ну, считай, Лобзик!
Лобзик пролаял три раза.
Ребята громко захлопали в ладоши и закричали от радости. Лобзик испугался, соскочил с табурета и бросился бежать. Костя догнал его, сунул в рот ему кусок сахару и посадил обратно на табурет. Лобзик принялся грызть сахар. Ребята постепенно утихли. Я достал из чемодана еще одну чурку и поставил рядом с остальными.
– Ну, а теперь сколько чурок? – спросил Костя.
Лобзик пролаял четыре раза.
Ребята снова дружно захлопали. Лобзик опять хотел соскочить с табурета, но Костя вовремя подхватил его и сунул ему в рот кусок сахару.
Я поставил на стол еще три чурки.
– А теперь сколько стало чурок? – спросил Костя. Лобзик пролаял семь раз.
Я достал из чемодана табличку с цифрой «2» и показал публике.
– Какая это цифра? – спросил Костя. Лобзик пролаял два раза.
Мы стали показывать Лобзику разные цифры; потом Костя спрашивал:
– Сколько будет дважды два? Сколько будет дважды три? Сколько будет три плюс четыре?
Лобзик отвечал правильно. Ребята все время хлопали в ладоши, но Лобзик постепенно привык к аплодисментам и уже не пугался. Я тоже перестал волноваться и сказал:
– Ребята, наш Лобзик умеет даже задачи решать. Кто хочет, может задать какую-нибудь задачку, чтоб были небольшие числа, и Лобзик решит.
Тут встал один мальчик и задал такую задачу: «Бутылка и пробка стоят 10 копеек. Бутылка на 8 копеек дороже пробки. Сколько стоит бутылка и сколько пробка?»
– Ну, Лобзик, – говорю, – подумай и реши задачу.
Конечно, Лобзику нечего было думать. Это я говорил так, чтобы самому подумать. Я быстро решил задачу: пробка стоила 2 копейки, бутылка 8 копеек, а вместе 10 копеек.
– Ну, Лобзик, говори: сколько стоит пробка? – спросил я.
Лобзик пролаял два раза.
– А бутылка?
Лобзик пролаял восемь раз. Ну и крик тут поднялся!
– Неправильно! – кричали ребята. – Собака ошиблась!
– Почему неправильно? – говорю я. – Вместе ведь стоят 10 копеек. Значит, бутылка 8 копеек, а пробка 2.
– Как же? Ведь в задаче сказано, что бутылка на 8 копеек дороже пробки. Если пробка стоит 2 копейки, то бутылка должна стоить 10 копеек, а они вместе стоят 10 копеек, – объяснили ребята.
Тут я сообразил, что ошибся, и говорю:
– Слушай, Лобзик, ты ошибся. Подумай хорошенько и реши задачу правильно.
Конечно, это мне самому надо было подумать, а не Лобзику, но я сказал:
– Подождите, ребята, сейчас он подумает и решит правильно.
– Пусть думает, – закричали ребята. – Не надо его торопить. Для собаки эта задача, конечно, трудная.
Я стал думать: «Если бутылка на 8 копеек дороже пробки, то пробка, значит, стоит 2 копейки, а бутылка 10. Но в таком случае они вместе будут стоить 12 копеек, а в задаче сказано, что вместе они стоят 10 копеек. Если же пробка стоит 2 копейки, а бутылка 8 копеек, то выходит, что бутылка всего на 6 копеек дороже». Прямо затмение на меня нашло! Что это за задача такая? Не задача, а какой-то заколдованный круг!
– Подождите еще, ребята, – говорю я. – Ему еще немного надо подумать. Сейчас он решит.
– Ничего, пусть думает! – закричали ребята. – Собака ведь не человек. Не может же она сразу.
«Да, – думаю, – тут и человек не может сразу решить, не то что собака!»
Стал снова думать.
– Эх ты, чудак! – прошептал Костя. – Пробка ведь стоит копейку!
Тут я сообразил, в чем дело: пробка стоит копейку, а бутылка на 8 копеек дороже, значит 9, а вместе – 10.
– Есть! – закричал я. – Внимание! Сейчас Лобзик ответит правильно.
Ребята затихли.
– Ну отвечай, Лобзик, сколько стоит пробка? Лобзик пролаял один раз.
– Ура! – закричали ребята.
– Тише, – говорю я. – Еще не вся задача. Пусть теперь скажет, сколько стоит бутылка.
Лобзик пролаял девять раз. Ну и шум тут поднялся! Ребята хлопали в ладоши и громко кричали.
– Вот так собака! – говорили они. – Хоть ошиблась, но в конце концов решила задачу правильно. На этом представление окончилось.
Глава двадцатая
И вот наступил Новый год и начались зимние каникулы. Во всех домах красовались нарядные елки. Настроение у всех было веселое, праздничное. У нас с Костей тоже было праздничное настроение, но мы решили не только гулять во время каникул, а и заниматься.
В первый же день мы пошли к Ольге Николаевне и получили у нее задание на каникулы.
У Кости появилась такая охота к учению, что он согласен был учиться по целым дням, но я решил, что мы будем работать по два часа в день, остальное время гулять, отдыхать или книжки читать.
Так мы занимались с ним каждый день, и Костя начал понемногу выправляться. Когда каникулы кончились, у нас вскоре был диктант, и Костя получил за него тройку. Он был так рад, будто это была не тройка, а самая настоящая пятерка.
– Чего ты так радуешься? – сказал я ему. – Тройка не такая уж замечательная отметка.
– Ничего, сейчас для меня хороша и тройка. Я уже давно тройки по письму не получал. Но я на этом не успокоюсь. Вот увидишь, в следующий раз получу четверку, а там и до пятерки доберусь.
– Конечно, доберешься, – сказал ему Юра. – Но ты сейчас еще о пятерке не думай, а скорей получай четверку, тогда у нас в классе ни одного троечника не будет.
– Не беспокойся, – ответил Костя, – все будет в порядке. Теперь уже класс не будет за меня краснеть. Я теперь понял, что каждый должен бороться за честь своего класса. Я и то уже поборолся как следует, а теперь уже совсем немножко осталось.
Ольга Николаевна тоже была рада, что Шишкин стал лучше учиться.
– Пора вам, ребята, включаться в общественную работу, – сказала она нам. – Все что-нибудь делают на общую пользу, только вы ничем не заняты.
– Теперь мы тоже возьмем какую-нибудь работу, – говорю я.
– Возьмем, – говорит Костя. – Я уже давно хочу работать в стенгазете, да меня все не выбирают в редколлегию.
– Правда, – говорю я. – Пусть нас выберут в редколлегию стенгазеты.
– В редколлегию вам еще рано. Там должны работать самые авторитетные ребята, – сказала Ольга Николаевна.
– Ну, все равно, мы и на какую-нибудь другую работу согласны, – говорит Костя. – Если хотите, пусть нас выберут в санкомиссию. Я уже был в санкомиссии, когда учился во втором классе. Мне очень нравилось ходить и всем приказы давать, чтоб мыли руки и чтоб у всех были чистые уши.
– Санкомиссия у нас уже выбрана. Если хотите, я вам дам очень интересную работу. Нужно организовать классную библиотечку. Будете выдавать ребятам книги.
– А где взять книги? – спрашиваю я.
– Книги получите в школьной библиотеке. А шкаф я вам достану.
– Я возьмусь, – говорит Костя. – Я люблю книги читать.
– Я тоже, – говорю, – возьмусь.
– Значит, договорились. Постарайтесь быть хорошими библиотекарями. Берегите книги, следите, чтоб ребята тоже бережно обращались с книгами.
Мы пошли к нашей библиотекарше Софье Ивановне, сказали, что мы теперь тоже будем библиотекарями в четвертом классе и нам нужны книги.
– Вот и хорошо, – сказала Софья Ивановна. – Книги для четвертого класса у меня есть. Вы сейчас их возьмете?
Она дала нам целую стопку книг для четвертого класса, и мы перетащили их в наш класс. Книг было много, штук сто, но когда мы поставили их в шкаф на полки, то нам показалось мало, потому что они заняли всего три полки, а три полки остались пустые.
– Может быть, нам из дому принести еще книжек, чтоб было побольше? – сказал Костя. – Я могу штук пять принести или шесть.
– Я тоже, – говорю, – могу принести штук пять, но этого мало. На три полки не хватит.
– А что, если у ребят попросить? Может быть, у кого-нибудь есть старые книжки, которые уже прочитаны. Пусть принесут для библиотечки.
Мы поговорили об этом с Ольгой Николаевной.
– Что же, скажите ребятам, может быть, ребята откликнутся на вашу просьбу, – сказала Ольга Николаевна.
На другой день мы объявили ребятам, что теперь у нас будет своя классная библиотечка, только книг у нас еще не очень много, и, кто хочет, пусть принесет для библиотечки хоть по одной книжке.
На эту просьбу откликнулись все ребята, и каждый принес кто книгу, кто две, а многие принесли и больше.
Книг получилось так много, что весь шкаф целиком заполнился. Мы хотели тут же начать выдавать книги ребятам, но Ольга Николаевна сказала, что нужно сначала сделать журнал.
Мы взяли толстую тетрадь и в эту тетрадь записали каждую книгу под номером. Теперь, если нужно было отыскать какую-нибудь книгу, то можно было не рыться на полках, а посмотреть по журналу.
Костя радовался, что теперь в нашей библиотечке такой порядок. Особенно ему нравилось, что все полки заняты книгами.
– Теперь как раз хорошо! – говорил он. – Ни прибавить ничего нельзя, ни убавить.
Он то и дело отворял шкаф и любовался на книги.
Некоторые книжки были уже старенькие. У некоторых еле держались переплеты или оторвались страницы. Мы решили взять такие книжки домой, чтоб починить. И вот, сделав все уроки, мы пошли с Костей ко мне, потому что у меня дома был клей, и взялись за дело. Лика увидела, что мы починяем книжки, и тоже захотела нам помогать.
Особенно много возни у нас было с переплетами. Костя все время ворчал.
– Ну вот! – говорил он. – Не знаю, что ребята делают с книжками. Бьют друг друга по голове, что ли?
– Кто же это дерется книжками? – сказала Лика. – Вот еще выдумал! Книги вовсе не для того.
– Почему же переплеты отрываются? Ведь если я буду сидеть спокойно и читать, разве переплет оторвется?
– Конечно, не оторвется.
– Вот об этом я и говорю. Или вот, смотрите: страница оторвалась! Почему она оторвалась? Наверно, кто-то сидел да дергал за листик, вместо того чтоб читать. А зачем дергал, скажите, пожалуйста? Вот дернуть бы его за волосы, чтоб не портил книг! Теперь страничка выпадет и потеряется, кто-нибудь станет читать и ничего не поймет. Куда это годится, спрашиваю я вас?
– Верно, – говорим, – никуда не годится.
– А вот это куда годится? – продолжал кричать он. – Смотрите, собака на шести ногах нарисована! Разве это правильно?
– Конечно, неправильно, – говорит Лика. – Собака должна быть на четырех ногах.
– Эх, ты! Да разве я о том говорю?
– А о чем?
– Я говорю о том, что разве правильно в книжках собак рисовать?
– Неправильно, – согласилась Лика.
– Конечно, неправильно! А на четырех она ногах или на шести, в этом разницы нет, то есть для книжки, конечно, нет, а для собаки есть. Вообще в книжках ничего не надо рисовать – ни собак, ни кошек, ни лошадей, а то один нарисует собаку, другой кошку, третий еще что-нибудь придумает, и получится в конце концов такая чепуха, что и книжку невозможно будет читать.
Он взял резинку и принялся стирать собаку. Потом вдруг как закричит:
– А это что? Рожу какую-то нарисовали, да еще чернилами!
Он принялся стирать рожу, но чернила въелись в бумагу, и кончилось тем, что он протер в книге дырку.
– Ну, если б знал, кто это нарисовал, – кипятился Шишкин, – я бы ему показал! Я бы его этой книжкой – да по голове!
– Ты ведь сам говорил, что книжками нельзя бить по голове, – сказала Лика. – От этого переплеты отскакивают. Костя осмотрел книгу со всех сторон.
– Нет, – говорит, – эта книжка выдержит, у нее переплет хороший.
– Ну, – говорю я, – если все библиотекари будут бить читателей по голове книжками, то переплетов не напасешься!
– Надо же учить как-нибудь, – сказал Костя. – Если у нас будут такие читатели, то я и не знаю, что будет. Я не согласен, чтоб они государственное имущество портили.
– Надо будет объяснить ребятам, чтоб они бережно обращались с книжками, – говорю я.
– А вы напишите плакат, – предложила Лика.
– Вот это дельное предложение! – обрадовался Костя – Только что написать? Лика говорит:
– Можно написать такой плакат: «Осторожней обращайся с книгой. Книга не железная».
– Где же это ты видела такой плакат? – спрашиваю я.
– Нигде, – говорит, – это я сама выдумала.
– Ну, и не очень умно, – ответил я. – Каждый без плаката знает, что книга железная не бывает.
– Может быть, написать просто: «Береги книгу, как глаз». Коротко и ясно, – сказал Костя.
– Нет, – говорю, – мне это не нравится. При чем тут глаз? И потом, не сказано, почему нужно беречь книгу.
– Тогда нужно написать: «Береги книгу, она дорого стоит», – предложил Костя.
– Тоже не годится, – ответил я, – есть книжки дешевые, так их рвать нужно, что ли?
– Давайте напишем так: «Книга – твой друг. Береги книгу», – сказала Лика.
Я подумал и согласился:
– По-моему, это подойдет. Книга – друг человека, потому что книга учит человека хорошему. Значит, ее нужно беречь, как друга.
Мы взяли бумагу, краски и написали плакат. На другой день мы повесили этот плакат на стене, рядом с книжным шкафом, и начали выдавать ребятам книжки. Выдавая кому-нибудь из учеников книгу, Костя говорил:
– Смотри, чтоб никаких собак, ни рож, ни чертей в книге не было.
– Как это?
– Ну, возьмешь да нарисуешь в книге какую-нибудь загогулину.
– Зачем же я стану рисовать?
– Будто я знаю! Мое дело предупредить, чтоб ни рож, ни собак. Это книжка общественная. Если б это была твоя собственная книга, тогда, пожалуйста, рисуй, но даже в собственной книжке не надо ничего рисовать, потому что после тебя она достанется твоему младшему брату или сестре или товарищу дашь почитать. Так что мое дело предупредить, а если ты не будешь слушаться, то потом я не так с тобой буду разговаривать.
– Ну ладно, сказал – и хватит. Но Костя не унимался, и каждому, кто брал книжки, он растолковывал в отдельности, почему надо бережно обращаться с книгами.
После уроков он, пригорюнившись, сидел возле шкафа и с грустью смотрел на поредевшие ряды книг на полках.
– Эх, – горевал он. – Снова книг мало стало! Так хорошо было! Шкаф был полнехонек, а теперь хоть бери и опять где-нибудь доставай книг.
– Что ж тут такого? – утешал его я. – Ведь ребята прочитают и принесут книги обратно.
– «Принесут»! Принести-то они принесут, да что толку! – ответил Костя. – Они одни книжки принесут, а другие взамен их возьмут. Вот никогда и не соберешь всех книг обратно.
– Зачем же их собирать? Ведь книги для того, чтоб читать, а не для того, чтоб на полках стоять. Я взял и себе книжку, чтоб почитать дома.
– Как? – говорит Костя. – И ты берешь? И так книжек мало осталось.
– Да я, – говорю, – быстренько прочитаю и принесу. Тогда и он взял себе книжку.
– Ну ничего, – утешал он сам себя. – Будет на одну книжку меньше. Все равно их мало осталось.
С тех пор мы с Костей имели свободный доступ к книгам и стали много читать. Костя так увлекся, что читал даже на улице. Возьмет из библиотечки книжку, идет по улице и читает. Кончилось это тем, что он налетел на фонарный столб и набил на лбу шишку. После этого он перестал читать на улице и читал только дома.
К библиотечной работе он относился серьезно, и постепенно у него даже характер переменился. Он стал аккуратным, более организованным и не таким рассеянным, как был раньше. К ребятам он относился требовательно. Если кто-нибудь приходил за книжкой с грязными руками, он начинал «пилить» его:
– Как тебе не стыдно? Почему у тебя такие грязные руки?
– Ну испачкались. Тебе-то какое дело?
– Как – какое дело? Ты ведь за книжкой пришел?
– За книжкой.
– И ты такими руками будешь брать книжку?
– Какими же мне ее еще брать руками?
– Чистыми надо брать руками. Ты ведь своими руками книжку испачкаешь!
– Ну, я приду домой – вымою.
– Нет, голубчик, иди-ка ты лучше под кран и вымой руки, а потом я тебе дам книжку.
Если кто-нибудь брал книжку и долго не приносил, Костя делал ему выговор:
– И тебе не стыдно так долго книжку держать? Другим ребятам тоже хочется почитать, а ты держишь и держишь! Если неохота читать, то отдай книжку обратно, а потом снова возьмешь.
– Я ведь не прочитал. Прочитаю и принесу.
– Так ты, может, до скончания веков будешь читать!
– Зачем до скончания веков? Книжка ведь выдается на десять дней.
– Ну на десять дней. А ты когда взял?
– А я взял неделю назад. Еще не прошло десяти дней.
– А тебе обязательно надо, чтобы все десять дней прошли? Десять дней – крайний срок. А ты прочитал раньше и приноси раньше, никто тебе не велит все десять дней держать.
– Так говорят же тебе, что еще не прочитал!
– Ну, так читай быстрей!
Если кто-нибудь слишком быстро приносил книгу, ему это тоже не нравилось:
– Послушай, когда же ты успел прочитать? Вчера только взял книжку, а сегодня уже обратно принес! Может быть, ты и не читал ее?
– Зачем же я тогда брал?
– Откуда же я знаю, зачем ты берешь! Может быть, ты только картинки рассматриваешь.
– Что я, маленький?
– Ну ладно, рассказывай, о чем здесь написано.
– Что это еще за экзамен?
– Ну, мне нужно проверить, читал ты или не читал.
– Не твое дело! Твое дело выдавать книжки, а не проверять.
– Нет, уж если меня назначили библиотекарем, то я должен проверить. Если ты не читаешь, то тебе, может быть, не нужно и давать книг. Пусть лучше кто-нибудь другой берет, кто читает.
Приходилось ученику рассказывать содержание книжки.
Глава двадцать первая
С тех пор как Костя исправил свою двойку по русскому и мы с ним стали вести общественную работу, наш авторитет среди ребят очень повысился. Косте разрешили играть в баскетбольной команде, и он оказался очень способным игроком. Мы выбрали его капитаном своей команды. Костя очень хорошо натренировал свою команду, и мы выиграли первенство в школьном соревновании. От этого наш авторитет еще больше увеличился, и о нашей команде написали в школьной стенгазете.
Но еще не все было у нас благополучно. Мы с Костей упорно продолжали заниматься по русскому языку, но он как застрял на тройке, так и не мог сдвинуться с места. Ему казалось, что после тройки он тут же сразу получит четверку, а потом и пятерку, но не тут-то было!
Ольга Николаевна упорно продолжала ставить ему тройки, так что в конце концов Костя даже начал приходить в отчаяние.
– Вы понимаете, – говорил он Володе, – мне теперь уже нельзя учиться на тройку. Я библиотекарь в классе и капитан команды. Про меня в школьной стенгазете написано. А я учусь на тройку! Куда это годится?
– Потерпи еще немного, – сказал Володя. – Надо продолжать заниматься.
– А я разве к тому говорю, чтоб не заниматься? Я все равно буду заниматься, только мне Ольга Николаевна никогда не поставит отметки лучше, чем тройка. Она уже привыкла, что я плохо учусь. Так я и буду ехать все время на тройке.
– Нет, – ответил Володя, – Ольга Николаевна справедливая. Когда ты будешь знать на четверку, она поставит тебе четверку.
– Ах, скорей бы она поставила! – говорил Костя. – Во всем классе один я троечник. Если бы не я, весь класс учился бы только на «хорошо» и «отлично». Я всему классу дело порчу!
Мы снова решительно брались за дело. Ольга Николаевна тоже занималась с Костей отдельно после уроков, и он хотя медленно, но зато верно продвигался вперед. Прошло полтора месяца с тех пор, как Костя получил тройку, и вот у него наконец появилась четверка. Это было радостное событие для всего класса.
В тот день у нас было собрание, и Ольга Николаевна сделала сообщение об успеваемости.
– Теперь у нас в классе нет плохих отметок, – сказала она. – Мы изжили не только двойки, но даже и тройки.
Она сказала, что мы с Костей очень хорошо поработали и Костя подтянулся так, что в дальнейшем сможет хорошо учиться.
– В нашей школе есть очень хорошие классы, где много отличников и хороших учеников, но такого дружного класса, как наш, где все учатся только хорошо и отлично, пока больше нет, – сказала Ольга Николаевна. – Думаю, что и другие классы последуют хорошему примеру наших учеников и добьются хорошей успеваемости. А вам, ребята, не нужно успокаиваться на достигнутом. Если вы успокоитесь и станете меньше работать, то опять можете снизить отметки.
Потом выступил вожатый Володя и сказал:
– Ребята, я напишу о вашем классе статью в школьную стенгазету, чтоб вся школа знала, как вы работаете, и чтоб другие классы могли брать с вас пример. А вы расскажите, что вам помогло добиться хороших результатов в учебе.
– Я думаю, это оттого, что Ольга Николаевна нас хорошо учила, – сказал Ваня Пахомов.
– Ольга Николаевна у нас очень хорошая, вот это и потому, – сказал Вася Ерохин.
– В классе не все зависит от учительницы, – сказала Ольга Николаевна. – И у хороших учителей бывают такие классы, где не все ученики учатся хорошо.
– Мы добились успехов потому, что Ольга Николаевна нас хорошо учила, и еще потому, что все захотели хорошо учиться, – сказал Толя Дёжкин.
– Вот и скажите, почему все захотели? – спросил Володя.
– Можно мне сказать? – попросил Костя. – Мне кажется, это потому, что у нас в классе между ребятами настоящая дружба. Каждый думает не только о себе, но и о своих товарищах. Это я на себе испытал. Когда я плохо учился, все ребята думали обо мне. Только я тогда был еще очень глупый и даже обижался. А теперь я вижу, что ребята хотели мне помочь и боролись за честь всего класса.
– Ты правильно сказал, Костя: дружба помогла вашему классу добиться успехов, – сказал Володя. – В вашем классе ребята поняли, что настоящая дружба состоит не в том, чтобы прощать слабости своих товарищей, а в том, чтобы быть требовательным к своим друзьям
– Позвольте мне сказать, – попросил я. – Вот я теперь понял, как нужно относиться к своему другу. От него надо требовать, чтоб он был хорошим. Если он ошибается, то надо ему сказать, а если не скажешь – значит ты сам плохой товарищ. Это я тоже на себе испытал. Костя сначала поступал неправильно, а я помогал ему в этом, и от этого получился один только вред. А потом я стал требовательным к нему, и теперь я ему настоящий друг.
– Ты рассудил правильно, – ответил Володя. Так мы разговаривали долго и задавали разные вопросы, а потом Костя сказал:
– Ольга Николаевна, я хочу попросить вас: поставьте мне мою четверку в дневник.
– В конце недели я буду проставлять всем отметки, тогда и тебе поставлю, – ответила Ольга Николаевна.
– Ну, поставьте сегодня, Ольга Николаевна, мне очень хочется!
– Зачем же тебе так спешно? Твоя четверка от тебя не уйдет.
– Я знаю, что не уйдет. Я хотел показать маме. Я давно уже обещал маме, что у меня будет четверка по русскому языку.
– Разве мама тебе без дневника не поверит? – спросила Ольга Николаевна.
– Поверит! – ответил Костя. – Только, знаете, на словах это так… А когда в дневнике – это совсем иначе.
– Правда, Ольга Николаевна, поставьте! Ему очень хочется! – стали просить ребята. Володя тоже сказал:
– Мы все просим, Ольга Николаевна! Только ему, а остальным в конце недели.
Ольга Николаевна улыбнулась.
– Ну, если все просят… – сказала она и взяла у Кости дневник.
Костя с волнением смотрел, как Ольга Николаевна поставила в его дневнике четверку.
Мы с Костей вышли из школы, и я заметил, что, пока мы сидели в классе, на дворе стало теплей. Мороз отпустил. С утра еще было холодно, а теперь под крышами заплакали сосульки. Они сверкали на солнышке, как блестящие украшения на новогодней елке. В лицо нам дул ветер. Он был какой-то мягкий, теплый и ласковый. От него пахло вот как пахнет водой у реки в жаркий день. Казалось, что этот ветер примчался к нам прямо с юга, из широких степей Казахстана, где уже наступила весна и начался сев. На душе у меня стало так хорошо, так радостно! Сердце громко стучало в груди и рвалось на простор. Хотелось куда-то мчаться или лететь. В голове теснились какие-то чудесные мысли, от которых захватывало дух, хотелось быть добрым, хорошим; хотелось сделать что-то необыкновенное, чтобы все удивились и чтобы всем стало так хорошо, как было мне.
Вот какие мысли были у меня в голове. А Костя шел и ничего не замечал. Потом он остановился, вынул из сумки дневник и полюбовался на свою четверку.
– Вот она, четверочка! – улыбнулся он. – Сколько я мечтал о ней! Сколько раз думал: вот получу четверку и покажу маме, и мама будет довольна мной. Я знаю, что не для мамы учусь, мама всегда говорит об этом, но все-таки я хоть немножечко, а и для мамы учусь. Ведь ей хочется, чтоб ее сын был хорошим. Я буду хорошим, вот увидишь. И мама будет гордиться мной. Еще поднажму, и у меня будет пятерка. Пусть тогда мама гордится. И тетя Зина пусть тоже гордится. Пусть, мне не жалко. Ведь тетя Зина тоже хорошая, хотя и пробирает меня иногда.
Он остановился, спрятал в сумку дневник и огляделся по сторонам. Потом вздохнул полной грудью.
– Ты чувствуешь? – сказал он. – Это весенний ветер! Скоро весна. Ведь сейчас уже конец февраля, а февраль – последний месяц зимы. Скоро наступит март, и придет весна, и потекут ручейки, и зазеленеет трава, в лесах проснутся ежи и ужи и другие разные звери, и запоют птички, и зацветут цветы…
И он начал еще что-то рассказывать про весну и про птичек, но я не запомнил, потому что как раз в это время мне в голову пришла мысль написать про все, что с нами случилось С тех пор я начал писать и писал чуть ли не каждый день понемногу, и, хотя я писал не обо всем, а только самое главное, я подошел к концу, уже когда занятия в школе кончились и мы с Костей перешли в следующий класс с одними пятерками.
Вот и все, о чем мне хотелось сказать.
12. Носов Н.Н. "Приключения Толи Клюквина"

Ученик четвертого класса школы № 36 Толя Клюквин вышел из дома № 10 на Демьяновской улице и, свернув в Третий Каширский переулок, зашагал к своему приятелю Славе Огонькову, который жил на Ломоносовской улице, в доме № 14. Еще вчера с вечера друзья условились встретиться сегодня утром и поиграть в шахматы. Они оба увлекались этой игрой и способны были играть с утра до вечера. Такая на них полоса нашла.
Толя очень спешил, потому что обещал своему другу прийти к десяти часам утра, но уже было гораздо больше, так как Толя по своей неорганизованности замешкался дома и не успел выйти вовремя. А тут еще, как это всегда бывает, когда поскорей надо, на улице произошла задержка. Он уже был в конце Третьего Каширского переулка, как вдруг из-за забора вылезла серая кошка и остановилась с явным намерением перебежать Толе дорогу.
— А-кши! Брысь сейчас же! — закричал Толя на кошку и, чтоб испугать ее, нагнулся, делая вид, будто хочет поднять с земли камень.
Это действительно испугало кошку, но, вместо того чтоб бежать назад, она бросилась через дорогу и скрылась за воротами дома на противоположной стороне улицы.
— Ах, чтоб тебя! — растерянно пробормотал Толя.
Он остановился, не смея идти вперед, и стал думать, что лучше: плюнуть три раза через плечо и продолжать путь или возвратиться назад и пройти по другой улице. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что его никто не видит, он решил все же вернуться назад.
«Будто что-нибудь может измениться от того, что я плюну три раза, — рассуждал он. — Раз кошка перебежала дорогу, то тут хоть плюй, хоть не плюй… Хотя если сказать по правде, то, может быть, и сама кошка ничего не значит, да ладно уж, шут с ней! Мне нетрудно по другой дороге пройти, а то на самом деле еще какая-нибудь неудача получится».
Рассуждая таким образом, Толя вернулся к своему дому и, пройдя по Демьяновской улице до следующего угла, свернул во Второй Каширский переулок. На этот раз он добрался до Ломоносовской улицы без особенных приключений и еще издали увидел, как из подъезда дома № 14 вышел какой-то мальчик. Сначала Толе показалось, что он очень похож на Славу Огонькова, потом показалось, будто не очень. Мальчик между тем постоял у подъезда, словно о чем-то раздумывая, после чего повернулся к Толе спиной и зашагал в противоположную сторону.
«Ладно, — сказал сам себе Толя. — Я сейчас поднимусь к Славе, и все станет ясно. Если Слава дома, то это значит, не он. Если же его дома нет, то тогда это он».
Поднявшись на четвертый этаж, Толя позвонил у дверей 31 квартиры. Ему отворила Славина мама.
— А Слава только что ушел, — сказала она. — Разве ты не встретил его?
— Нет, то есть я видел его издали, да подумал, что это не он. Он ведь сказал, что подождет меня.
— Он тебя долго ждал, даже сердился, что ты не идешь. А потом ему позвонил по телефону Женя Зайцев, и Слава сказал, что пойдет к нему.
— Свинья какая! Будто уж не мог подождать немножко! — сказал Толя, попрощавшись со Славиной мамой и спускаясь по лестнице.
Выйдя на улицу, он постоял у подъезда, раздумывая, что предпринять, потом тоже пошел к Жене Зайцеву, который жил на Загородном шоссе, то есть довольно далеко от Ломоносовской улицы. Теперь Толе не к чему было спешить. Он шел, зевая по сторонам и разглядывая все, что попадалось на пути. На Суворовском бульваре он остановился, чтоб посмотреть на ребят, которые учились кататься на детском двухколесном велосипеде.
Ребят было четверо, но ни один из них еще не умел кататься, поэтому они не столько ездили, сколько падали с велосипеда. Нужно сказать, что кататься на этом велосипеде без привычки было довольно трудно, так как он был не совсем обычной конструкции. На обычном двухколесном велосипеде педали надо крутить только до тех пор, пока машина не разгонится, после чего велосипед едет сам, а педали стоят на месте. На этом же велосипеде педали надо было крутить все время. Даже когда их можно было уже и не крутить, они сами крутились. Это, наверное, объяснялось тем, что велосипед был устаревшей системы. Его подарил ребятам один жилец, который жил в их доме.
Жильца этого звали Иван Герасимович. Когда Иван Герасимович был еще маленький, ему подарил этот велосипед его папа. Потом Иван Герасимович вырос и купил себе настоящий, взрослый, велосипед, а этот велосипед спрятал в сарае. Он думал, что когда-нибудь женится и у него будут дети, тогда он подарит им этот велосипед. Но прошло лет двадцать пять или тридцать, Иван Герасимович так и не женился, а про велосипед забыл. И вот недавно он разбирал у себя в сарае старую рухлядь и увидел этот велосипед.
«Что мне с ним делать? — подумал Иван Герасимович. — Отдам-ка я его ребятам в общее пользование. Все равно у меня своих детишек нету. Хотя я еще, может быть, женюсь, но к тому времени велосипед совсем заржавеет, и его надо будет выбросить или сдать в утиль».
Он вытащил велосипед из сарая и сказал ребятам:
— Вот вам, чертенята, велосипед. Он хоть неказистый на вид, зато крепкий. Я в детстве по целым дням катался на нем, а у него, глядите, хотя бы спица сломалась. Словом, катайтесь, ребятки. Доламывайте.
Ребята были очень удивлены и даже не верили, что им дарят велосипед, но потом увидели, что Иван Герасимович не шутит, и очень обрадовались. Сначала они попробовали кататься по двору, но там им было очень больно падать, так как весь двор был вымощен крупным булыжником. Тогда они пошли на бульвар, и здесь их увидел Толя. Он посмотрел, как ребята то и дело кувыркались с велосипеда на землю, и сказал:
— Эх, вы! Кто же так учится кататься! Так и носы расшибете! На велосипеде надо учиться кататься с горы.
— Почему с горы? — удивились ребята.
— Потому что, когда едешь с горы, велосипед катится сам — педали крутить не надо, и можно учиться держать равновесие. А когда научишься держать равновесие, можно начинать учиться крутить педали. Если же начнешь учиться сразу и тому и другому, то ничего не получится. Кто-то из ребят сказал:
— Надо пройти по бульвару дальше, там дорога идет вниз, то есть с горки. Все побежали туда, где начинался спуск. Но ни у кого не хватало смелости скатиться на велосипеде с горы.
— Какие же вы трусишки! — сказал Толя. — Ну-ка дайте велосипед, я покажу вам, как надо кататься.
Толя сел на велосипед, оттолкнулся ногой и покатил вниз. Он уже умел немного кататься, и езда на велосипеде не представляла для него трудности. Ребята гурьбой побежали за ним. Они уже начали бояться, как бы он не удрал от них вместе с велосипедом. Велосипед между тем набирал скорость. Педали начали вертеться с такой быстротой, что Толя не успевал крутить ногами. Пришлось ему отпустить педали, но они все-таки продолжали вращаться и начали бить его по ногам. Тогда Толя расставил ноги широко в стороны и помчался такой раскорякой со страшной скоростью. Неожиданно он увидел впереди малышей, которые играли посреди бульвара. Чтоб не наехать на них, ему пришлось круто повернуть в сторону. На его счастье, в ограде бульвара оказалась калитка. Толя проскочил сквозь нее, в мгновение ока пересек улицу и въехал в ворота дома.
Промелькнув по двору с быстротой молнии, Толя выехал на задворки и со всего разгона наткнулся передним колесом на толстую чугунную тумбу, которая лежала недалеко от забора. От удара велосипед брыкнул, словно лошадь, и встал торчком. Толя выскочил из седла, перелетел вверх ногами через забор, как акробат в цирке, и шлепнулся в мусорный ящик, который стоял в соседнем дворе под забором.
Все произошло так быстро, что Толя не успел опомниться, как уже сидел в ящике. Падая, он зацепился за гвоздь, который торчал в крышке ящика, и разорвал на спине рубашку. Это несколько задержало скорость полета, к тому же он упал на кучу мягкого мусора, что значительно смягчило удар. Таким образом, все обошлось благополучно, если не считать, что в самый последний момент Толя ушибся о стенку ящика лбом.
Придя понемногу в себя, он ощупал рукой ушибленный лоб, и ему показалось, что там у него ссадина или царапина.
Приложив к ссадине носовой платок, Толя стал осматриваться по сторонам, пытаясь разгадать, куда это он попал.
Ребята, которые мчались за велосипедом во весь опор, сильно отстали. Они, однако, успели заметить, как Толя свернул с бульвара и скрылся в чужих воротах. Вскочив в эти же ворота и пробежав в конец двора, они обнаружили валявшийся под забором велосипед. Увидев, что велосипед не похищен, но сам Толя куда-то исчез, ребята принялись бегать по двору, заглядывать во все уголки и кричать:
— Мальчик! Мальчик!
Но Толя не отзывался. Ребята подумали, что он, должно быть, не захотел больше кататься и ушел домой. Они взяли велосипед и побежали обратно на бульвар.
Сидя в ящике, Толя слыхал, как кричали ребята, но так как они звали его не по имени, то решил, что зовут кого-то другого. Осмотревшись по сторонам и выглянув из мусорного ящика наружу, Толя наконец уяснил себе, куда он попал. Понятно, у него не было большого желания сидеть в таком месте. Убедившись, что кровь из царапины на лбу уже не идет, он спрятал в карман носовой платок и вылез из ящика.
Перед ним, за деревьями, был виден серый кирпичный дом с высокой аркой в стене. Толя пошел прямо под эту арку, надеясь выйти на улицу, но попал не на улицу, а в другой двор. Здесь было гораздо красивее, чем там, откуда явился Толя. Посреди двора возвышалась огромная круглая клумба с цветущими астрами, георгинами и яркими, как огоньки, настурциями. Недалеко от клумбы была куча песка, обнесенная с четырех сторон голубым деревянным заборчиком. Какие-то красивые тихие дети сидели вокруг кучи и лепили из песка пирожки. Они были в ярких, цветастых платьицах и костюмчиках. Издали их тоже можно было принять за цветы. По обеим сторонам песочной кучи были разбиты газоны с аккуратно подстриженной зеленой травкой. Вдоль газонов стояли удобные лавочки, на которых сидели мамы детей. Они мирно беседовали между собой, читали книжки и следили, чтоб детишки хорошо вели себя и не запорошили друг Другу песочком глаза.
Позади лавочек была волейбольная площадка с протянутой поперек нее веревочной сеткой. Несколько мальчиков и девочек постарше играли в волейбол.
Двор был большой, широкий, окруженный со всех четырех сторон стенами домов с балконами. На многих балконах пестрели цветы, высаженные в длинных деревянных ящиках. Толя невольно остановился и залюбовался открывшейся перед ним картиной. Все это было удивительно: и цветы, и газоны с травой, и дети, и большой кожаный мяч, плавно взлетавший над волейбольной сеткой.
«Ах, если бы и мне жить в этом доме! — подумал Толя. — Я бы каждый день глядел на цветочки, на песочную горку с детишками, играл бы с этими мальчиками и девочками в волейбол».
Он грустно вздохнул и как раз в это время увидел, что одна девочка махнула ему рукой, приглашая его поиграть с ними. Толя подошел несмело, но уже через две-три минуты вполне освоился среди новых друзей. Ему даже стало казаться, что он знаком с ними чуть ли не тысячу лет. Прошло еще минут пять, и он уже захватил, как говорится, инициативу в свои руки: подавал команду, когда надо было меняться местами, кричал «аут», «сетбол», «мазила» и другие какие-то непонятные слова. Он всех учил правилам игры, хотя сам не особенно соблюдал эти правила. Кончилось тем, что он не смог взять мяч, который шел очень низко. Вместо того чтоб отбить мяч рукой, он стукнул по нему ногой. Удар получился более сильный, чем ожидал Толя, мяч полетел в сторону и попал прямо в окно на втором этаже дома. Осколки стекла со звоном посыпались вниз. Мяч, к счастью, не влетел в окно, а упал тут же рядом.
Первой мыслью Толи было броситься наутек, но он подавил в себе это желание. Ему казалось нечестным сбежать. Могли ведь подумать, что окно вышиб не он, а кто-нибудь из оставшихся игроков. Между тем один мальчик схватил мяч и, прижимая его к груди, побежал со двора.
— Спасайся кто может! — закричал кто-то.
Все игроки бросились врассыпную.
Увидев, что остался один, Толя решил, что теперь и ему можно бежать, но в тот же момент почувствовал, как его кто-то крепко схватил сзади за шиворот, и чей-то визгливый голос закричал прямо в ухо:
— Ты куда же это мячом садишь, разбойник?! Некуда тебе мячом пулять, окромя как по окнам, лоботряс ты этакий!
Толя обернулся, насколько было можно в его положении, и, скосив глаза, увидел злое лицо старой женщины, с коричневой бородавкой, величиной с горошину, над верхней губой. Одной рукой старуха крепко держала Толю за шиворот, в другой руке у, нее была черная клеенчатая сумка с продуктами.
— Я нечаянно, — растерянно пробормотал Толя, стараясь вырваться.
— Я вот те оторву голову нечаянно да заместо стекла в окошко вставлю. Нет на вас, сорванцов, угомону!
— Опять у вас разбили, Дарья Семеновна? — спросила одна из женщин, которые сидели на лавочке возле песочной кучи.
— У нас, милая, а то как же! Уже в третий раз подряд бьют, чтоб их лихоманка била! Стекол на них не напасешься. Ты из какой квартиры? — спросила Дарья Семеновна и с силой тряхнула Толю за шиворот.
— Из шестнадцатой, — признался Толя.
— А вот и неправда, — сказала другая женщина. — Я в шестнадцатой квартире всех знаю.
— Так я ведь не в вашем доме живу, — ответил Толя.
— Ах, не в нашем! — со злой усмешкой сказала Дарья Семеновна. — Мало тут наши бьют окна, так еще не наши приходить будут! Пойдем-ка в домоуправление.
Старуха потащила Толю в домоуправление. Там сидели управдом и счетовод. Управдом что-то писал за столом. Счетовод что-то подсчитывал на арифмометре. Он при этом курил, не выпуская изо рта папиросу, и жмурился от попадавшего в глаза дыма.
Еще там, на лавочке, у окна сидел усатый мужчина в сапогах. Он тоже курил папиросу, отчего в комнате стоял дым столбом.
Попав в эту отравленную дымом атмосферу, Толя закашлялся, но Дарья Семеновна бесцеремонно подтолкнула его вперед и, прикрыв за собой дверь, сказала:
— Вот, окно высадил. Уже в третий раз разбивают, значит. Только было отлучилась в магазин за продуктами, возвращаюсь, а этот как наподдаст мячик ногой. Сама видела. Наши-то все на дачу уехали, денег мне в обрез оставили. Где я теперь на стекольщика два рубля возьму?
— Гм! — промычал управдом, отрываясь от своих бумаг. — Придется, дружочек, уплатить за стекло два рублика.
— Я принесу, — пролепетал Толя.
— Вот, вот, дружище, пойди-ка и принеси.
— Так он и принесет, держи карман шире! — проворчала Дарья Семеновна.
— Честное слово, я принесу, — стал уверять ее Толя.
— А ты погоди со своим честным-то словом! Уйдешь, только тебя и видели!
— Верно, — сказал управдом. — Надо записать его адрес. Как твое имя, фамилия?
— Толя Клюквин.
— Где живешь? Говори адрес.
— Демьяновская улица, дом десять, квартира шестнадцать.
— Ну так вот, Толя Клюквин, не принесешь два рубля на стекольщика, мы тебя по этому адресу живо найдем. Понял? — сказал управдом, записав Толин адрес.
— Найдешь его, держи карман, — сказала недоверчивая старуха. — Он тебе наврет с три короба, только записывай.
Управдом покосился на Дарью Семеновну.
— Ну, это нетрудно проверить, — ответил он. — Демьяновская, десять. Это какое же домоуправление будет?.. Кажется, двадцать девятое…
Управдом полистал лежавшую перед ним тетрадь со списком домоуправлений, снял телефонную трубку и набрал номер.
— Алло! — закричал он, подождав с минуту. — Это двадцать девятое?.. Посмотрите там по домовой книге, живет у вас в шестнадцатой квартире Толя Клюквин? Как?.. Живет?.. Ну спасибо… Что натворил?.. Да ничего особенного. Стекло здесь одной гражданке высадил… Ну, бабушка, вы не беспокойтесь, — сказал он, обращаясь к Дарье Семеновне и кладя трубку на место. — Теперь он от нас не скроется. Все правильно.
— То-то и подозрительно, что все правильно, — сказал усатый мужчина, который сидел на лавочке. — У нас тут в четвертом отделении милиции случай был. Задержал милиционер мальчишку: прыгал на ходу из трамвая, а штраф отказался платить. Ну, его, естественно, милиционер в отделение привел. Там, естественно, спрашивают: «Как фамилия?» Он говорит: «Ваня Сидоров», — то есть не свою фамилию назвал, а одного своего знакомого мальчика. Его спрашивают: «Где живешь?» Он им и адрес этого Вани Сидорова дал. Те стали звонить из милиции в домоуправление: живет, мол, там у вас Ваня Сидоров? Им говорят: «Живет». Ну те, что ж, отпустили этого Ваню Сидорова, то есть не Ваню Сидорова, а этого мальчишку, который Ваней Сидоровым назвался, а на другой день послали родителям настоящего Вани Сидорова повестку, чтоб уплатили за своего сына штраф. Ну, родители, конечно, на Ваню набросились. «Что же ты, говорят, такой-сякой, с подножки на ходу прыгаешь? Штраф теперь за тебя плати!» Парнишка, конечно, расстроился, в слезы: «Не прыгал я!» — «А, так ты еще врать, такой-сякой!» Бедный парень уверяет, клянется. Заболел, понимаете, от такого недоверия. Родители видят — что-то не то получается. Не стал бы мальчонка так сильно расстраиваться, если б правда. Отец, естественно, побежал в милицию. «Мы, говорит, сыну верим. Наш Ваня не станет на ходу из трамвая прыгать. Он хороший». Ему говорят: «Они все хорошие, когда дома сидят». Отец говорит: «Все равно я не стану штраф платить». — «А не заплатите, говорят, судить вас будем».
Через неделю там или другую вызывают отца на суд. Отец приходит. «Товарищи, говорит, это что же такое? Не прыгал ведь он». — «Как, говорят, не прыгал, когда тут все: и имя, и фамилия, и адрес, — все точно записано». Хотели отцу присудить пятнадцать суток ареста за то, что плохо сына воспитывает и штраф не хочет платить, да спасибо кто-то надоумил вызвать в качестве свидетеля того милиционера, который задержал Ваню, когда он с подножки прыгал.
Ну, вызвали, естественно, милиционера, показали ему Ваню.
Милиционер посмотрел и говорит: «А я уж и не помню, какой тот мальчишка-то был, да, сдается мне, этот Ваня не тот мальчик, что я задержал». Потом он еще пригляделся к нему и говорит: «Да, теперь я точно вижу, что это не тот». Так эта история ничем и кончилась. А могли Ваниного отца на пятнадцать суток арестовать ни за что ни про что. А того парнишку, который Ваней Сидоровым назвался, так и не нашли.
— Да, найдешь его! — сказал управдом. — Видно, стреляный воробей оказался.
— Еще какой стреляный! — подхватил усатый мужчина. — Обычно мальчишка наврет с три короба, а все без толку: выдумает и номер дома, и квартиру, и улицу. Станут в домоуправление звонить, а там во всем доме и квартиры-то такой нет, или живет в ней кто-то другой. Вот тут-то он и попался. А этот все верно сказал, только не про себя, а про Ваню Сидорова.
— Этак-то, — сказала Дарья Семеновна, — каждый разобьет тебе стекло и скажет: я, дескать, Ваня Сидоров, живу там-то и там-то. Потом иди получай с Вани Сидорова.
— Гм! Вот видите, бабушка, какая оказия, — сказал управдом, пытливо взглянув на Толю. — Может быть, он на самом деле Ваня Сидоров, то есть… тьфу!.. как, ты сказал, твоя фамилия?
— Толя Клюквин, — ответил Толя.
— Вот, вот. Может быть, он на самом деле Толя Клюквин, а может, и кто другой. Тут, как видите, по-всякому бывает. Идите-ка вы с ним лучше в милицию, там поточней разберут.
— Зачем в милицию? — взмолился Толя. — Я вам говорю правду.
— «Правду, правду»! — проворчала с досадой старуха. — Жди от вас правды-то!
Она схватила Толю за руку чуть повыше локтя и потащила на улицу. Толя семенил рядом с ней, пугливо оглядываясь по сторонам. Ему казалось, что прохожие с любопытством глядели на него и догадывались, что его ведут в милицию, наверное, думали, что он вор.
Толя ни разу еще не попадал в милицию, и ему очень не хотелось идти туда. Он рванулся что было силы, но старуха еще крепче впилась своими цепкими пальцами в его руку.
— За что вы его? — спросила шедшая навстречу женщина.
— Стекло в доме расшиб.
— Куда же вы его теперь?
— А в милицию. Куда же еще?
— Пустите меня! — просил Толя, стараясь вырваться.
Но старуха держала его как клещами.
— А ты не трепыхайся, — твердила она. — От меня все равно не уйдешь.
— Пустите! — просил Толя. — Я сам пойду. Не надо меня держать. Я не убегу.
— Так я тебе и поверила.
Убедившись, что ему не вырваться из рук Дарьи Семеновны, Толя решил пойти на хитрость. Он видел, что она могла держать его только одной рукой, так как в другой у нее была сумка с продуктами.
«Когда-нибудь рука у нее устанет, и она не сможет меня так крепко держать», — решил Толя.
Он перестал вырываться и некоторое время шел спокойно, как бы примирившись со своей участью. Усыпив таким образом бдительность старухи, он неожиданно рванулся и, оказавшись на свободе, бросился удирать.
— Стой! Стой! — закричала Дарья Семеновна, бросаясь за ним вдогонку. — Стой, говорят тебе! Держите его!
Встречные пешеходы останавливались, не зная, надо им ловить Толю или не надо. Один гражданин хотел было его схватить, но Толя ловко шмыгнул у него под рукой и, повернув с тротуара, помчался по мостовой. Здесь ему не угрожали встречные пешеходы и он мог развить гораздо большую скорость. Дарья Семеновна тоже побежала по мостовой, но тут же чуть не угодила под грузовую машину.
— Стой! — закричала она, бросившись обратно на тротуар. — Остановись сейчас же! Попадешь под машину!
Но Толя не слушал ее. Он выбежал на перекресток и понесся через дорогу. Дарья Семеновна увидела мчавшийся наперерез Толе трамвай и остановилась на углу улицы. Внутри у нее все похолодело. Ей казалось, что Толя вот-вот угодит под трамвай. Но вагоновожатый, увидав Толю, замедлил ход. Толя перебежал через рельсы, но с другой стороны к нему уже приближался автомобиль. Бежать назад было поздно. Раздался визг тормозов. Автомобиль ткнул Толю в плечо и тут же остановился. Толя упал. Дарья Семеновна уронила на землю сумку и закрыла лицо руками.
Вокруг Толи моментально образовалась толпа. Какой-то гражданин сейчас же подбежал к телефонной будке и стал вызывать «скорую помощь». Толя между тем поднялся на ноги.
— Больно ушибся? — спросил его кто-то. — Ты не ранен?
— Нет, — замотал головой Толя.
Шофер вылез из кабины и подбежал к Толе:
— И откуда ты взялся посреди мостовой, постреленок? Больно тебе?
— Нет, не больно.
Шофер схватил его обеими руками, потрогал за локти, за плечи:
— Нигде не болит?
— Нигде. Я испугался просто.
— «Испуга-а-лся» ! — Лицо шофера расплылось в улыбке. — Скажи спасибо, что я затормозить успел вовремя.
Тут подошел милиционер.
— Что с мальчиком? — спросил он шофера.
— Счастливый случай, товарищ милиционер. Можно сказать, отделался легким испугом.
— Вот как!
В это время сквозь толпу пробралась Дарья Семеновна. Руки у нее тряслись от страха, губы дрожали. Увидев, что Толя как ни в чем не бывало стоит возле автомашины, она бросилась к нему и заголосила:
— Живой, гляди-ка! Ах ты мой милы-ы-й!
Толя увидел старуху и метнулся от нее в сторону. Однако вокруг плотной стеной стояла толпа, и ему некуда было бежать.
— Да ты что, милый! — замахала руками старуха. — Да разве ж я тебя трону? Товарищ милиционер, это я, честное слово, я во всем виновата. Это он от меня, окаянной, с испугу под машину бросился. И все из-за стекла этого, будь оно трижды неладно!
— Это верно, — сказал кто-то в толпе. — Я лично видел, как эта старушенция гналась за ним, словно разъяренная фурия.
— Ну что ж, мы так и запишем, — сказал милиционер и начал писать протокол.
— Пиши, милый, пиши! А ты, голубчик, не бойся, — обратилась старуха к Толе. — Я на тебя за стекло не в обиде, чтоб оно сгорело, век бы его не видать! Ты, миленький, приходи к нам, играй с ребятишками в этот свой мячик. А стекла-то эти, бей их хоть каждый день, разве я что скажу!
Тут неподалеку остановилась машина «скорой помощи», и из нее вышла женщина в белом халате.
— Где пострадавший? — спросила она, подойдя к толпе. — Кого здесь машиной сшибло?
— Да вон, мальчонку, — ответил ей кто-то.
Толпа моментально расступилась, и женщина подошла к Толе:
— Ну-ка, держись руками за мою шею, я тебя в санитарную машину снесу.
— Да он здоровехонек, — с усмешкой сказал шофер. — Ничего ему не сделалось.
— Это вы так думаете, — строго сказала женщина. — А я вижу, что у мальчика лоб разбит.
— Так это я не сейчас, — сказал Толя. — Это я поранился, когда в мусорный ящик упал.
— В какой такой мусорный ящик?
— Ну, когда с ребятами на велосипеде катался.
Женщина схватила Толю в охапку и понесла к санитарной машине.
— Куда же вы его? — сказала Дарья Семеновна. — Он же сказал, что об мусорный ящик поранился.
— А по-вашему, если об мусорный ящик, то и лечить не надо? Ему поскорей надо укол против столбняка сделать.
— Ну что ж, на то вы и врачи, чтоб знать, против чего укол делать, — сказала Дарья Семеновна. — А ты, миленький, приходи к нам в мячик играть, когда поправишься! — закричала она и помахала Толе рукой.
Через минуту Толя уже ехал в санитарной машине. Женщина уложила его на носилки, а сама села рядом на лавочке.
— Вот приедем в больницу, доктор осмотрит тебя, тогда можно будет и ходить, и бегать, а сейчас пока полежи, — говорила она.
В окно санитарной машины были видны только верхние этажи зданий, и Толя никак не мог догадаться, по каким улицам они ехали. Но не это его тревожило. Больше всего его волновало то, что ему должны были сделать укол. Он боялся, что будет больно.
Скоро машина повернула в ворота лечебницы и остановилась у подъезда. Два санитара открыли дверцы и начали вытаскивать из машины носилки.
Толя хотел вскочить на ноги, но один из санитаров строго сказал:
— Лежи, лежи смирненько!
И они понесли Толю в больницу. Толе, однако, хотелось видеть, куда это его несут, и, вместо того чтоб спокойно лежать, он сидел на носилках и вертел во все стороны головой.
— И что за парень попался такой упрямый! — ворчал санитар, который шагал сзади. — Ему говорят — лежи, а он тут как ванька-встанька.
Пройдя по коридору больницы, санитары внесли Толю в большую светлую комнату с белыми стенами и высоким потолком. Здесь, как и в коридоре, пахло йодом, карболкой и другими медикаментами. Один из санитаров легко схватил Толю под мышки и положил на высокую твердую койку, застеленную холодной белой клеенкой.
— Лежи тут. Сейчас доктор придет, — сказал санитар тихо и для чего-то погрозил Толе пальцем.
Толя остался лежать. Ему было страшно. Доктор почему-то долго не приходил. Толе уже стало казаться, что о нем все забыли, но через некоторое время дверь отворилась, и вошел доктор вместе с медицинской сестрой.
Доктор был старенький и весь белый: в чистом белом халате, в белом колпаке на голове, с белыми седыми бровями, а на носу очки. Он любил говорить слово «ну-с», обращался к Толе на «вы» и называл его молодым человеком:
— Ну-с, молодой человек, как же это вы под машину попали?
Не дожидаясь Толиного ответа, он вставил себе в уши две тонкие резиновые трубочки и приложил Толе к груди какую-то круглую металлическую штучку.
— Ну-с, попрошу вас дышать, молодой человек. Так… дышите поглубже… еще дышите… — приговаривал он, прикладывая металлическую штучку к груди то справа, то слева.
Потом поднес Толе к носу палец:
— А теперь попрошу вас смотреть на кончик моего пальца.
И стал водить пальцем в разные стороны. Толя вертел глазами то вправо, то влево, то вверх, то вниз, старательно следя за докторским пальцем.
После этого доктор ощупал Толю со всех сторон, постукал по коленкам резиновым молоточком с блестящей металлической ручкой и, обратившись к медицинской сестре, спросил:
— У вас все готово, Серафима Андреевна?
— Все готово, — отозвалась она.
— Ну так приступайте! — приказал доктор.
«Батюшки! К чему это она приступать будет?» — подумал Толя.
От страха у него завертелись в глазах оранжевые круги и похолодело внутри.
— Не надо мне делать укол! — взмолился он — Я больше не буду!
— Глупенький! Кто тебе сказал, что я буду делать укол? Я вовсе не буду.
С улыбкой Серафима Андреевна подошла к Толе, пряча за спиной шприц, который держала в руке. Свободной рукой она перевернула Толю на бок и как бы в шутку ущипнула пальцами за спину.
— Ай! — завизжал Толя, почувствовав, как игла шприца впилась в его тело.
— Тише, голубчик, тише! Все уже! Не кричи! Уже ведь не больно!
— Да, не больно! — плаксиво ответил Толя.
— Теперь пусть он полежит полчасика, и можете отправить его домой. Только не забудьте помазать ему йодом ранку на лбу, — сказал доктор и вышел из комнаты.
Серафима Андреевна помазала Толе ссадину на лбу йодом, потом присела к столу и стала что-то писать в тетради.
— Тебя как звать-то? — спросила она. Толя хотел сказать, что его зовут Толя, но почему-то сказал, что его имя Слава, а когда Серафима Андреевна спросила, как его фамилия, он, вместо того чтоб сказать Клюквин, ответил, что его фамилия Огоньков, то есть назвал имя и фамилию своего приятеля Славы Огонькова, к которому шел утром, когда кошка ему дорогу перебежала.
— Красивая у тебя фамилия, — сказала Серафима Андреевна, записывая имя и фамилию Славы Огонькова в тетрадь. — А где ты живешь?
Вместо того чтобы сказать, что он живет на Демьяновской, дом 10, квартира 16, Толя сказал, что живет на Ломоносовской, дом 14, квартира 31, то есть опять-таки дал адрес не свой, а этого самого Славы Огонькова.
Впоследствии Толя и сам не мог объяснить, почему он соврал. Должно быть, он вспомнил в этот момент, как никто ему не поверил в домоуправлении, когда он говорил правду, ну, а раз никто не верит, то чего ж ему и стараться! К тому же он очень боялся, как бы из больницы не сообщили матери про все, что случилось.
Таким образом, Толя поступил в точности, как тот мальчик, про которого слышал в домоуправлении. Если бы он не слышал про этого мальчика, ему бы и в голову не пришло называться чужим именем и давать чужой адрес, но поскольку он слышал, то ему тут же и пришло все это в голову.
— Ломоносовская улица — это не близко, — сказала Серафима Андреевна. — У вас дома есть телефон?
У Толи дома телефона не было, но он вспомнил, что в квартире у Славы телефон был, и поэтому сказал, что телефон есть.
— А какой номер? — спросила Серафима Андреевна.
— Номер, номер… — забормотал Толя, морща изо всех сил лоб. — Номер не помню.
— Как же ты своего телефона не помнишь? — усмехнулась Серафима Андреевна.
— Видно, так испугался, когда под машину попал, что и номер забыл. Ну ничего, я сейчас посмотрю в справочнике.
— А зачем вы хотите по телефону звонить? — испуганно спросил Толя.
— Надо же сказать твоей маме, чтобы пришла за тобой. Я бы сама отвела тебя домой, но мне нельзя отлучаться с работы.
— Будто я сам не найду дороги домой! — сказал Толя. — Зачем меня еще отводить!
— Нет, голубчик, я тебя не могу отпустить одного. Вдруг ты снова угодишь под машину!
Серафима Андреевна принялась листать телефонную книгу.
— Вот, — сказала она, отыскав нужную страницу. — Огоньков, Ломоносовская улица, дом четырнадцать, квартира тридцать один.
Она протянула руку к телефонному аппарату, сняла трубку и принялась набирать номер. Толя с тревогой наблюдал за ее действиями и ждал, что из всего этого выйдет. Единственная его надежда была на то, что у Славы не окажется никого дома. Однако надежда эта оказалась напрасной. Через полминуты Серафима Андреевна уже разговаривала со Славиной мамой.
— Алло! Это гражданка Огонькова? — кричала она в телефонную трубку. — С вами говорят из больницы. Вам надо прийти за сыном. Да, да, за сыном, за Славой… Что с ним?.. Да с ним ничего. Он лежит тут… Да вы не волнуйтесь. С ним ничего, честное слово, ничего… Ну, а лежит потому, что ему противостолбнячный укол сделали. Противостолбнячный. Да… Зачем укол?.. Ну, вы ведь знаете, что при ранении всегда полагается укол против столбняка делать… Да нет! Какое ранение! Кто вам говорит про ранение? Он вовсе не ранен… Да не ранен, говорят вам! Просто царапина. Заживет к вечеру… Да я не обманываю вас, честное слово, я говорю правду. Царапина! Абсолютно никакого ранения… Что?.. Царапина отчего?.. Ну, попал под машину, то есть не попал под машину, а его сшибло, то есть не сшибло, что это я говорю, — он сам упал, а машины даже близко не было, честное слово… Да нет, что вы такое выдумываете! Я не успокаиваю вас. Он живой, честное слово… Да что вы поднимаете раньше времени панику! Вот он лежит тут, честное слово, лежит, что я, врать буду! Приезжайте, сами увидите… Что? Куда приезжать?.. Тургеневская, дом двадцать пять.
Серафима Андреевна положила трубку и, улыбнувшись, сказала Толе:
— Ну вот, как удачно все вышло. Сейчас твоя мама здесь будет.
Услыхав эту новость, Толя моментально соскочил с койки, но Серафима Андреевна уложила его обратно.
— А ты лежи. Зачем же вставать? После укола всегда полежать надо. Мама придет, вместе домой отправитесь.
Толя лежал и старался представить себе, как он будет выпутываться, когда Славина мама придет и увидит его вместо Славы.
«Может быть, признаться Серафиме Андреевне, что я вовсе не Слава?» — думал Толя.
Однако он никак не мог решиться признаться, а потом Серафима Андреевна вышла из комнаты, и ее долго не было. Увидев, что она не возвращается, Толя решил, что теперь самое лучшее будет — это удрать отсюда. Он уже представлял себе, как Серафима Андреевна и Славина мама войдут в комнату и, увидев, что его нет, начнут искать по всей больнице; Славина мама, конечно, испугается еще больше, но в конце концов она все же вернется домой, увидит Славу и успокоится.
Продумав все это, Толя поднялся на койке и уже опустил ноги вниз, чтоб соскочить на пол, но в это время дверь отворилась, и в комнату вошла Серафима Андреевна, а за ней Славина мама. Лицо у нее было бледное и встревоженное.
— Ну, вот видите, — сказала Серафима Андреевна. — Он жив и вполне здоров, и даже смеется.
Толя сидел на койке и глупо улыбался, глядя на Славину маму.
— Где же мой сын? — спросила Славина мама, обводя комнату растерянным взглядом и как бы не замечая Толю.
— Да вот же, — весело сказала Серафима Андреевна, махнув рукой в сторону Толи. — Неужто не признали своего сына?
— Где мой сын? — глухо повторила Славина мама. — Толя, где Слава?
— Не знаю, — пробормотал Толя.
— Вы ведь вместе были у Жени Зайцева. Куда вы от него пошли? Толя, не скрывай от меня ничего!
— Да какой он Толя! Он Слава, — сказала Серафима Андреевна.
— Кто — Слава? — удивилась Славина мама. — Да он же. Кто же еще?
— Слушайте, что все это значит? Вы скажете наконец, где мой сын?
— Так разве Слава не ваш сын?
— Слава мой сын, но ведь это не Слава, а Толя! Толя Клюквин, понимаете? Сколько раз повторять вам! Я, кажется, с ума сойду!
— Что же ты сказал мне, что тебя зовут Слава Огоньков? — напустилась Серафима Андреевна на Толю. — Вы меня, гражданка, простите, но я не виновата. Он мне сказал, что он Огоньков, я и позвонила вам. Ты зачем сказал, что ты Огоньков, когда ты вовсе не Огоньков? Ты что, не в своем уме, такие шутки шутить? Или ты, может, испугался, когда под машину попал? Вы его не вините, гражданка, должно быть, он от испуга не то, что надо, сказал. Это бывает.
— Да я разве виню? Я никого не виню. Я только хочу узнать, где мой сын?
— Гражданочка, откуда же я могу знать, где ваш сын? Разве вы не видите, что вашего сына у нас нет?
— Значит, он не попал под машину?
— Должно быть, еще не попал, — развела руками Серафима Андреевна — Думаю, что, если б попал, его бы к нам привезли
— Слушай, Толя, — обратилась Славина мама к Толе. — Ты мне скажи только, когда вы со Славой ушли сегодня от Жени?
— А я разве был сегодня у Жени? — спросил Толя.
— А разве нет? Мне показалось сегодня утром, что ты тоже к Жене пошел.
— Я пойти-то пошел, но дойти-то не дошел. Я не попал к нему, потому что сюда вот попал.
— Так, может быть, Слава и сейчас у Жени сидят? Ты не помнишь телефон Жени?
— Нет.
— Ну, телефон можно по телефонной книге узнать, — сказала Серафима Андреевна.
Она быстро разыскала в телефонной книге телефон Жени Зайцева. Славина мама сейчас же позвонила, и оказалось, что Слава был там. Поговорив со Славой и приказав ему возвращаться домой, она успокоилась и попросила Серафиму Андреевну дать ей немножечко валерьяновых капель. Серафима Андреевна накапала ей валерьянки в стаканчик и сказала:
— Теперь надо бы позвонить Толиной маме, чтобы пришла за ним.
— Нет, нет, — сказала Славина мама. — Не надо Толиной маме звонить, а то вы ее до смерти перепугаете.
— Что вы! Зачем же я стану пугать? Уж я знаю, как надо.
— Нет, я лучше сама отведу Толю домой. Да у них, кстати, и телефона нет. Сказав это, Славина мама взяла Толю за руку и, попрощавшись с Серафимой
Андреевной, вышла на улицу.
— Как же так получилось, что ты в больницу попал? — спросила она.
Толя стал рассказывать по порядку, как отправился утром к Славе, но вернулся назад, потому что ему перебежала дорогу кошка, а поэтому он опоздал и не застал Славу дома; как пошел потом к Жене, но по дороге стал кататься на велосипеде и упал в мусорный ящик, потом играл с ребятами в волейбол, разбил мячом окно, попал в руки злой бабке, которая потащила его в милицию, а он от нее вырвался и побежал через дорогу, и его чуть не задавил автомобиль, после чего его отвезли в больницу и сделали укол против столбняка. Славина мама не могла сдержать на лице улыбку, слушая весь этот невероятный рассказ.
Потом она сказала:
— Какой же ты чудной человек! Ну, скажи, пожалуйста, что было бы, если бы ты не обратил внимания на то, что тебе перебежала дорогу кошка, а пошел бы спокойно своей дорогой?
— Да что было бы?.. Ничего, наверное, и не было бы, — ответил Толя. — Я застал бы дома Славу, мы играли бы с ним дома в шахматы, и я не пошел бы к Жене, не разбил бы окно, не удрал бы от бабки и не попал бы под машину.
— Вот видишь! Это все из-за того, что ты человек с предрассудками и веришь в разную чепуху.
— А это что — предрассудки?
— Не знаешь, что такое предрассудки? — усмехнулась Славина мама. — Постараюсь тебе объяснить. Ты, наверное, знаешь, что когда-то человек был еще очень дикий, необразованный, не умел правильно рассуждать, не понимал многого, что происходит вокруг. Когда происходило затмение солнца, он, не умея объяснить это неожиданное явление, пугался и воображал, что оно предвещает какое-нибудь бедствие, а когда ему неожиданно перебегала дорогу кошка или другое животное, он думал, что это тоже сулит какую-нибудь неудачу. Так появились многие предрассудки, а предрассудками они названы потому, что возникли еще перед тем, как человек научился правильно пользоваться своим рассудком, или умом.
— Так лучше их назвали бы не предрассудками, а передрассудками, — сказал Толя.
— Ну, это все равно, что «пред», что «перед», — сказала Славина мама. — Принято говорить «предрассудки». Ну вот. Мы с тобой прекрасно знаем, что во время солнечного затмения Луна заслоняет Солнце, и это не может предвещать ничего плохого. Что же может случиться с человеком плохого, если ему перебежит дорогу кошка?
— Ну что может случиться? Наверное, ничего, — ответил Толя. — Человек ходит сам по себе, а кошка бегает сама по себе.
— Вот видишь, ты это понимаешь, — сказала Славина мама. — Плохо будет только тогда, когда человек из-за какой-нибудь чепухи, вроде кошки, станет делать не то, что должен. Представь себе, что у тебя есть друг. И вот твой друг попал в беду. Ты спешишь на помощь ему, но как раз в этот момент тебе перебегает дорогу кошка. Что ты сделаешь? Повернешься и пойдешь назад, вместо того чтоб выручать друга?
— Нет, я буду выручать друга.
— Правильно! Человеку всегда надо делать то, что велит ему долг, а не то, что велит ему вера в кошку или в другую какую-нибудь ерунду. Ты вот шел утром к Славе, потому что обещал встретиться с ним, значит, твой долг был идти к нему, а ты из-за какой-то ничтожной кошки стал петлять по улицам, так что в конце концов чуть под автомобиль не попал.
Пока Славина мама объясняла все это Толе, они дошли до Ломоносовской улицы. Увидев, что они очутились возле Славиного дома, Толя сказал:
— Не надо меня провожать дальше. Теперь я сам дорогу домой найду.
— Ну, иди сам, — согласилась Славина мама,
Толя свернул в Третий Каширский переулок и зашагал к своему дому. Он шел и думал:
«Вот какая чепуха может выйти из-за всех этих предрассудков! И еще хорошо, что все хорошо кончилось! Не затормози шофер вовремя, и все кончилось бы гораздо хуже».
Неожиданно его рассуждения были прерваны появлением рыжей полусибирской кошки, которая выскочила из-за угла дома и, распушив хвост трубой, быстро побежала через дорогу. Толя вздрогнул от неожиданности и остановился, как вкопанный.
«Вот уж как не повезет с утра, так целый день не будет везти! — с досадой подумал он. — Что теперь делать? Если идти в обход, то снова какая-нибудь ерунда случится: или в мусорный ящик свалишься, или кирпич на голову упадет. Так и во веки веков домой не дойдешь!»
Он нерешительно посмотрел по сторонам и сказал сам себе:
«Нет, с этим пора кончать! Что я, человек или не человек? Я человек! А человек — существо умное, гордое. Он запускает в космос ракеты, покорил атомную энергию, выдумал думающую машину. Человек не может зависеть от какой-то старой, облезлой кошки и всегда должен делать то, что велит ему долг. А что мне велит долг? Мой долг велит мне идти домой обедать, потому что мама уж давно ждет меня и, наверное, волнуется».
Славина мама долго стояла на углу улицы и смотрела вслед Толе. Она боялась, как бы с ним не случилось еще чего-нибудь. Она видела, как он почему-то остановился посреди тротуара, постоял в нерешительности некоторое время, потом вдруг махнул рукой и, подняв гордо голову, бодро пошел вперед.
13. Одоевский Ф.В. "Городок в табакерке"

Папенька поставил на стол табакерку. «Поди-ка сюда, Миша, посмотри-ка», — сказал он. Миша был послушный мальчик; тотчас оставил игрушки и подошёл к папеньке. Да уж и было чего посмотреть! Какая прекрасная табакерка! пёстренькая, из черепахи. А что на крышке-то! Ворота, башенки, домик, другой, третий, четвёртый, — и счесть нельзя, и все мал мала меньше, и все золотые; а деревья-то также золотые, а листики на них серебряные; а за деревьями встаёт солнышко, и от него розовые лучи расходятся по всему небу.
— Что это за городок? — спросил Миша.
— Это городок Динь-Динь, — отвечал папенька и тронул пружинку…
И что же? Вдруг, невидимо где, заиграла музыка. Откуда слышна эта музыка, Миша не мог понять: он ходил и к дверям — не из другой ли комнаты? и к часам не в часах ли? и к бюро, и к горке; прислушивался то в том, то в другом месте; смотрел и под стол… Наконец Миша уверился, что музыка точно играла в табакерке. Он подошёл к ней, смотрит, а из-за деревьев солнышко выходит, крадётся тихонько по небу, а небо и городок всё светлее и светлее; окошки горят ярким огнём, и от башенок будто сияние. Вот солнышко перешло через небо на другую сторону, всё ниже да ниже, и наконец за пригорком совсем скрылось; и городок потемнел, ставни закрылись, и башенки померкли, только ненадолго. Вот затеплилась звёздочка, вот другая, вот и месяц рогатый выглянул из-за деревьев, и в городке стало опять светлее, окошки засеребрились, и от башенок потянулись синеватые лучи.
— Папенька! папенька! нельзя ли войти в этот городок? Как бы мне хотелось!
— Мудрено, мой друг: этот городок тебе не по росту.
— Ничего, папенька, я такой маленький; только пустите меня туда; мне так бы хотелось узнать, что там делается…
— Право, мой друг, там и без тебя тесно.
— Да кто же там живёт?
— Кто там живёт? Там живут колокольчики.
С этими словами папенька поднял крышку на табакерке, и что же увидел Миша? И колокольчики, и молоточки и валик, и колёса… Миша удивился: «Зачем эти колокольчики? зачем молоточки? зачем валик с крючками?» — спрашивал Миша у папеньки.
А папенька отвечал: «Не скажу тебе, Миша; сам посмотри попристальнее да подумай: авось-либо отгадаешь. Только вот этой пружинки не трогай, а иначе всё изломается».
Папенька вышел, а Миша остался над табакеркой. Вот он сидел-сидел над нею, смотрел-смотрел, думал-думал, отчего звенят колокольчики?
Между тем музыка играет да играет; вот всё тише да тише, как будто что-то цепляется за каждую нотку, как будто что-то отталкивает один звук от другого. Вот Миша смотрит: внизу табакерки отворяется дверца, и из дверцы выбегает мальчик с золотою головкою и в стальной юбочке, останавливается на пороге и манит к себе Мишу.
«Да отчего же, — подумал Миша, — папенька сказал, что в этом городке и без меня тесно? Нет, видно, в нём живут добрые люди, видите, зовут меня в гости».
— Извольте, с величайшею радостью!
С этими словами Миша побежал к дверце и с удивлением заметил, что дверца ему пришлась точь-в-точь по росту. Как хорошо воспитанный мальчик, он почёл долгом прежде всего обратиться к своему провожатому.
— Позвольте узнать, — сказал Миша, — с кем я имею честь говорить?
— Динь-динь-динь, — отвечал незнакомец, — я мальчик-колокольчик, житель этого городка. Мы слышали, что вам очень хочется побывать у нас в гостях, и потому решились просить вас сделать нам честь к нам пожаловать. Динь-динь-динь, динь-динь-динь.
Миша учтиво поклонился; мальчик-колокольчик взял его за руку, и они пошли. Тут Миша заметил, что над ними был свод, сделанный из пёстрой тиснёной бумажки с золотыми краями. Перед ними был другой свод, только поменьше; потом третий, ещё меньше; четвёртый, ещё меньше, и так все другие своды — чем дальше, тем меньше, так что в последний, казалось, едва могла пройти головка его провожатого.
— Я вам очень благодарен за ваше приглашение, — сказал ему Миша, — но не знаю, можно ли будет мне им воспользоваться. Правда, здесь я свободно прохожу, но там, дальше, посмотрите, какие у вас низенькие своды, — там я, позвольте сказать откровенно, там я и ползком не пройду. Я удивляюсь, как и вы под ними проходите.
— Динь-динь-динь! — отвечал мальчик. — Пройдём, не беспокойтесь, ступайте только за мной.
Миша послушался. В самом деле, с каждым их шагом, казалось, своды подымались, и наши мальчики всюду свободно проходили; когда же они дошли до последнего свода, тогда мальчик-колокольчик попросил Мишу оглянуться назад. Миша оглянулся, и что же он увидел? Теперь тот первый свод, под который он подошёл, входя в дверцы, показался ему маленьким, как будто, пока они шли, свод опустился. Миша был очень удивлён.
— Отчего это? — спросил он своего проводника.
— Динь-динь-динь! — отвечал проводник, смеясь. — Издали всегда так кажется. Видно, вы ни на что вдаль со вниманием не смотрели; вдали всё кажется маленьким, а подойдёшь — большое.
— Да, это правда, — отвечал Миша, — я до сих пор не думал об этом, и оттого вот что со мною случилось: третьего дня я хотел нарисовать, как маменька возле меня играет на фортепьяно, а папенька на другом конце комнаты читает книжку. Только этого мне никак не удалось сделать: тружусь, тружусь, рисую как можно вернее, а всё на бумаге у меня выйдет, что папенька возле маменьки сидит и кресло его возле фортепьяно стоит, а между тем я очень хорошо вижу, что фортепьяно стоит возле меня, у окошка, а папенька сидит на другом конце, у камина. Маменька мне говорила, что папеньку надобно нарисовать маленьким, но я думал, что маменька шутит, потому что папенька гораздо больше её ростом; но теперь вижу, что она правду говорила: папеньку надобно было нарисовать маленьким, потому что он сидел вдалеке. Очень вам благодарен за объяснение, очень благодарен.
Мальчик-колокольчик смеялся изо всех сил: «Динь-динь-динь, как смешно! Не уметь рисовать папеньку с маменькой! Динь-динь-динь, динь-динь-динь!»
Мише показалось досадно, что мальчик-колокольчик над ним так немилосердно насмехается, и он очень вежливо сказал ему:
— Позвольте мне спросить у вас: зачем вы к каждому слову всё говорите «динь-динь-динь»?
— Уж у нас поговорка такая, — отвечал мальчик-колокольчик.
— Поговорка? — заметил Миша. — А вот папенька говорит, что очень нехорошо привыкать к поговоркам.
Мальчик-колокольчик закусил губы и не сказал больше ни слова.
Вот перед ними ещё дверцы; они отворились, и Миша очутился на улице. Что за улица! Что за городок! Мостовая вымощена перламутром; небо пёстренькое, черепаховое; по небу ходит золотое солнышко; поманишь его, оно с неба сойдёт, вкруг руки обойдёт и опять поднимается. А домики-то стальные, полированные, крытые разноцветными раковинками, и под каждою крышкою сидит мальчик-колокольчик с золотою головкою, в серебряной юбочке, и много их, много и все мал мала меньше.
— Нет, теперь уж меня не обманут, — сказал Миша. — Это так только мне кажется издали, а колокольчики-то все одинакие.
— Ан вот и неправда, — отвечал провожатый, — колокольчики не одинакие. Если бы все были одинакие, то и звенели бы мы все в один голос, один как другой; а ты слышишь, какие мы песни выводим. Это оттого, что, кто из нас побольше, у того и голос потолще. Неужели ты и этого не знаешь? Вот видишь ли, Миша, это тебе урок: вперёд не смейся над теми, у которых поговорка дурная; иной и с поговоркою, а больше другого знает, и можно от него кое-чему научиться.
Миша, в свою очередь, закусил язычок.
Между тем их окружили мальчики-колокольчики, теребили Мишу за платье, звенели, прыгали, бегали.
— Весело вы живёте, — сказал им Миша, — век бы с вами остался. Целый день вы ничего не делаете, у вас ни уроков, ни учителей, да ещё и музыка целый день.
— Динь-динь-динь! — закричали колокольчики. — Уж нашёл у нас веселье! Нет, Миша, плохое нам житьё. Правда, уроков у нас нет, да что же в том толку? Мы бы уроков не побоялися. Вся наша беда именно в том, что у нас, бедных, никакого нет дела; нет у нас ни книжек, ни картинок; нет ни папеньки, ни маменьки; нечем заняться; целый день играй да играй, а ведь это, Миша, очень, очень скучно. Поверишь ли? Хорошо наше черепаховое небо, хорошо и золотое солнышко и золотые деревья; но мы, бедные, мы насмотрелись на них вдоволь, и всё это очень нам надоело; из городка мы — ни пяди, а ты можешь себе вообразить, каково целый век, ничего не делая, просидеть в табакерке, и даже в табакерке с музыкою.
— Да, — отвечал Миша, — вы говорите правду. Это и со мной случается: когда после ученья примешься за игрушки, то так весело; а когда в праздник целый день всё играешь да играешь, то к вечеру и сделается скучно; и за ту и за другую игрушку примешься — всё не мило. Я долго не понимал; отчего это, а теперь понимаю.
— Да, сверх того, на нас есть другая беда, Миша: у нас есть дядьки.
— Какие же дядьки? — спросил Миша.
— Дядьки-молоточки, — отвечали колокольчики, — уж какие злые! то и дело что ходят по городу да нас постукивают. Которые побольше, тем ещё реже «тук-тук» бывает, а уж маленьким куда больно достаётся.
В самом деле, Миша увидел, что по улице ходили какие-то господа на тоненьких ножках, с предлинными носами и шептали между собою: «тук-тук-тук! тук-тук-тук! поднимай! задевай! тук-тук-тук!». И в самом деле, дядьки-молоточки беспрестанно то по тому, то по другому колокольчику тук да тук, индо бедному Мише жалко стало. Он подошёл к этим господам, очень вежливо поклонился им и с добродушием спросил, зачем они без всякого сожаления колотят бедных мальчиков. А молоточки ему в ответ:
— Прочь ступай, не мешай! Там в палате и в халате надзиратель лежит и стучать нам велит. Всё ворочается, прицепляется. Тук-тук-тук! Тук-тук-тук!
— Какой это у вас надзиратель? — спросил Миша у колокольчиков.
— А это господин Валик, — зазвенели они, — предобрый человек, день и ночь с дивана не сходит; на него мы не можем пожаловаться.
Миша — к надзирателю. Смотрит: он в самом деле лежит на диване, в халате и с боку на бок переворачивается, только всё лицом кверху. А по халату-то у него шпильки, крючочки видимо-невидимо; только что попадётся ему молоток, он его крючком сперва зацепит, потом спустит, а молоточек-то и стукнет по колокольчику.
Только что Миша к нему подошёл, как надзиратель закричал:
— Шуры-муры! кто здесь ходит? кто здесь бродит? Шуры-муры? кто прочь не идёт? кто мне спать не даёт? Шуры-муры! шуры-муры!
— Это я, — храбро отвечал Миша, — я — Миша…
— А что тебе надобно? — спросил надзиратель.
— Да мне жаль бедных мальчиков-колокольчиков, они все такие умные, такие добрые, такие музыканты, а по вашему приказанию дядьки их беспрестанно постукивают…
— А мне какое дело, шуры-муры! Не я здесь набольший. Пусть себе дядьки стукают мальчиков! Мне что за дело! Я надзиратель добрый, всё на диване лежу и ни за кем не гляжу. Шуры-муры, шуры-муры…
— Ну, многому же я научился в этом городке! — сказал про себя Миша. — Вот ещё иногда мне бывает досадно, зачем надзиратель с меня глаз не спускает. «Экой злой! — думаю я. — Ведь он не папенька и не маменька; что ему за дело, что я шалю? Знал бы, сидел в своей комнате». Нет, теперь вижу, что бывает с бедными мальчиками, когда за ними никто не смотрит.
Между тем Миша пошёл далее — и остановился. Смотрит, золотой шатёр с жемчужною бахромою; наверху золотой флюгер вертится, будто ветряная мельница, а под шатром лежит царевна Пружинка и, как змейка, то свернётся, то развернётся и беспрестанно надзирателя под бок толкает. Миша этому очень удивился и сказал ей:
— Сударыня царевна! Зачем вы надзирателя под бок толкаете?
— Зиц-зиц-зиц, — отвечала царевна. — Глупый ты мальчик, неразумный мальчик. На всё смотришь, ничего не видишь! Кабы я валик не толкала, валик бы не вертелся; кабы валик не вертелся, то он за молоточки бы не цеплялся, молоточки бы не стучали; кабы молоточки не стучали, колокольчики бы не звенели; кабы колокольчики не звенели, и музыки бы не было! Зиц-зиц-зиц.
Мише захотелось узнать, правду ли говорит царевна. Он наклонился и прижал её пальчиком — и что же?
В одно мгновение пружинка с силою развилась, валик сильно завертелся, молоточки быстро застучали, колокольчики заиграли дребедень и вдруг пружинка лопнула. Всё умолкло, валик остановился, молоточки попадали, колокольчики свернулись на сторону, солнышко повисло, домики изломались… Тогда Миша вспомнил, что папенька не приказывал ему трогать пружинку, испугался и… проснулся.
— Что во сне видел, Миша? — спросил папенька.
Миша долго не мог опамятоваться. Смотрит: та же папенькина комната, та же перед ним табакерка; возле него сидят папенька и маменька и смеются.
— Где же мальчик-колокольчик? Где дядька-молоточек? Где царевна Пружинка? — спрашивал Миша. — Так это был сон?
— Да, Миша, тебя музыка убаюкала, и ты здесь порядочно вздремнул. Расскажи же нам по крайней мере что тебе приснилось!
— Да видите, папенька, — сказал Миша, протирая глазки, — мне всё хотелось узнать, отчего музыка в табакерке играет; вот я принялся на неё прилежно смотреть и разбирать, что в ней движется и отчего движется; думал, думал и стал уже добираться, как вдруг, смотрю, дверка в табакерку растворилась… — Тут Миша рассказал весь свой сон по порядку.
— Ну, теперь вижу, — сказал папенька, — что ты в самом деле почти понял, отчего музыка в табакерке играет; но ты это ещё лучше поймёшь, когда будешь учиться механике.
14. Паустовский К.Г. "Теплый хлеб"

Когда кавалеристы проходили через деревню Бережки, немецкий снаряд разорвался на околице и ранил в ногу вороного коня. Командир оставил раненого коня в деревне, а отряд ушёл дальше, пыля и позванивая удилами, — ушёл, закатился за рощи, за холмы, где ветер качал спелую рожь.
Коня взял к себе мельник Панкрат. Мельница давно не работала, но мучная пыль навеки въелась в Панкрата. Она лежала серой коркой на его ватнике и картузе. Из-под картуза посматривали на всех быстрые глаза мельника. Панкрат был скорый на работу, сердитый старик, и ребята считали его колдуном.
Панкрат вылечил коня. Конь остался при мельнице и терпеливо возил глину, навоз и жерди — помогал Панкрату чинить плотину.
Панкрату трудно было прокормить коня, и конь начал ходить по дворам побираться. Постоит, пофыркает, постучит мордой в калитку, и, глядишь, ему вынесут свекольной ботвы, или чёрствого хлеба, или, случалось даже, сладкую морковку. По деревне говорили, что конь ничей, а вернее — общественный, и каждый считал своей обязанностью его покормить. К тому же конь — раненый, пострадал от врага.
Жил в Бережках со своей бабкой мальчик Филька, по прозвищу “Ну Тебя”. Филька был молчаливый, недоверчивый, и любимым его выражением было: “Да ну тебя!”. Предлагал ли ему соседский мальчишка походить на ходулях или поискать позеленевшие патроны, Филька отвечал сердитым басом: “Да ну тебя! Ищи сам!”. Когда бабка выговаривала ему за неласковость, Филька отворачивался и бормотал: “Да ну тебя! Надоела!”.
Зима в этот год стояла тёплая. В воздухе висел дым. Снег выпадал и тотчас таял. Мокрые вороны садились на печные трубы, чтобы обсохнуть, толкались, каркали друг на друга. Около мельничного лотка вода не замерзала, а стояла чёрная, тихая, и в ней кружились льдинки.
Панкрат починил к тому времени мельницу и собирался молоть хлеб, — хозяйки жаловались, что мука кончается, осталось у каждой на два-три дня, а зерно лежит немолотое.
В один из таких тёплых серых дней раненый конь постучал мордой в калитку к Филькиной бабке. Бабки не было дома, а Филька сидел за столом и жевал кусок хлеба, круто посыпанный солью.
Филька нехотя встал, вышел за калитку. Конь переступил с ноги на ногу и потянулся к хлебу. “Да ну тебя! Дьявол!” — крикнул Филька и наотмашь ударил коня по губам. Конь отшатнулся, замотал головой, а Филька закинул хлеб далеко в рыхлый снег и закричал:
— На вас не напасёшься, на христорадников! Вон твой хлеб! Иди копай его мордой из-под снега! Иди копай!
И вот после этого злорадного окрика и случились в Бережках те удивительные дела, о каких и сейчас люди говорят, покачивая головами, потому что сами не знают, было ли это или ничего такого и не было.
Слеза скатилась у коня из глаз. Конь заржал жалобно, протяжно, взмахнул хвостом, и тотчас в голых деревьях, в изгородях и печных трубах завыл, засвистел пронзительный ветер, вздул снег, запорошил Фильке горло. Филька бросился обратно в дом, но никак не мог найти крыльца — так уже мело кругом и хлестало в глаза. Летела по ветру мёрзлая солома с крыш, ломались скворечни, хлопали оторванные ставни. И всё выше взвивались столбы снежной пыли с окрестных полей, неслись на деревню, шурша, крутясь, перегоняя друг друга.
Филька вскочил наконец в избу, припёр дверь, сказал: “Да ну тебя!” — и прислушался. Ревела, обезумев, метель, но сквозь её рев Филька слышал тонкий и короткий свист — так свистит конский хвост, когда рассерженный конь бьёт им себя по бокам.
Метель начала затихать к вечеру, и только тогда смогла добраться к себе в избу от соседки Филькина бабка. А к ночи небо зазеленело, как лёд, звёзды примёрзли к небесному своду, и колючий мороз прошёл по деревне. Никто его не видел, но каждый слышал скрип его валенок по твёрдому снегу, слышал, как мороз, озоруя, стискивал толстые брёвна в стенах, и они трещали и лопались.
Бабка, плача, сказала Фильке, что наверняка уже замёрзли колодцы и теперь их ждёт неминучая смерть. Воды нет, мука у всех вышла, а мельница работать теперь не сможет, потому что река застыла до самого дна.
Филька тоже заплакал от страха, когда мыши начали выбегать из подпола и хорониться под печкой в соломе, где ещё оставалось немного тепла. “Да ну вас! Проклятые!” — кричал он на мышей, но мыши всё лезли из подпола. Филька забрался на печь, укрылся тулупчиком, весь трясся и слушал причитания бабки.
— Сто лет назад упал на нашу округу такой же лютый мороз, — говорила бабка. — Заморозил колодцы, побил птиц, высушил до корня леса и сады. Десять лет после того не цвели ни деревья, ни травы. Семена в земле пожухли и пропали. Голая стояла наша земля. Обегал её стороной всякий зверь — боялся пустыни.
— Отчего же стрясся тот мороз? — спросил Филька.
— От злобы людской, — ответила бабка. — Шёл через нашу деревню старый солдат, попросил в избе хлеба, а хозяин, злой мужик, заспанный, крикливый, возьми и дай одну только чёрствую корку. И то не дал в руки, а швырнул на пол и говорит: “Вот тебе! Жуй!”. — “Мне хлеб с полу поднять невозможно, — говорит солдат. — У меня вместо ноги деревяшка.” — “А ногу куда девал?” — спрашивает мужик. “Утерял я ногу на Балканских горах в турецкой баталии”, — отвечает солдат. “Ничего. Раз дюже голодный — подымешь, — засмеялся мужик. — Тут тебе камердинеров нету”. Солдат покряхтел, изловчился, поднял корку и видит — это не хлеб, а одна зелёная плесень. Один яд! Тогда солдат вышел на двор, свистнул — и враз сорвалась метель, пурга, буря закружила деревню, крыши посрывала, а потом ударил лютый мороз. И мужик тот помер.
— Отчего же он помер? — хрипло спросил Филька.
— От охлаждения сердца, — ответила бабка, помолчала и добавила: — Знать, и нынче завелся в Бережках дурной человек, обидчик, и сотворил злое дело. Оттого и мороз.
— Чего ж теперь делать, бабка? — спросил Филька из-под тулупа. — Неужто помирать?
— Зачем помирать? Надеяться надо.
— На что?
— На то, что поправит дурной человек своё злодейство.
— А как его исправить? — спросил, всхлипывая, Филька.
— А об этом Панкрат знает, мельник. Он старик хитрый, учёный. Его спросить надо. Да неужто в такую стужу до мельницы добежишь? Сразу кровь остановится.
— Да ну его, Панкрата! — сказал Филька и затих.
Ночью он слез с печи. Бабка спала, сидя на лавке. За окнами воздух был синий, густой, страшный.
В чистом небе над осокорями стояла луна, убранная, как невеста, розовыми венцами.
Филька запахнул тулупчик, выскочил на улицу и побежал к мельнице. Снег пел под ногами, будто артель весёлых пильщиков пилила под корень берёзовую рощу за рекой. Казалось, воздух замёрз и между землёй и луной осталась одна пустота жгучая и такая ясная, что если бы подняло пылинку на километр от земли, то и её было бы видно и она светилась бы и мерцала, как маленькая звезда.
Чёрные ивы около мельничной плотины поседели от стужи. Ветки их поблёскивали, как стеклянные. Воздух колол Фильке грудь. Бежать он уже не мог, а тяжело шёл, загребая снег валенками.
Филька постучал в окошко Панкратовой избы. Тотчас в сарае за избой заржал и забил копытом раненый конь. Филька охнул, присел от страха на корточки, затаился. Панкрат отворил дверь, схватил Фильку за шиворот и втащил в избу.
— Садись к печке, — сказал он.— Рассказывай, пока не замёрз.
Филька, плача, рассказал Панкрату, как он обидел раненого коня и как из-за этого упал на деревню мороз.
— Да‑а, — вздохнул Панкрат, — плохо твоё дело! Выходит, что из-за тебя всем пропадать. Зачем коня обидел? За что? Бессмысленный ты гражданин!
Филька сопел, вытирал рукавом глаза.
— Ты брось реветь! — строго сказал Панкрат. — Реветь вы все мастера. Чуть что нашкодил — сейчас в рёв. Но только в этом я смысла не вижу. Мельница моя стоит, как запаянная морозом навеки, а муки нет, и воды нет, и что нам придумать — неизвестно.
— Чего же мне теперь делать, дедушка Панкрат? — спросил Филька.
— Изобрести спасение от стужи. Тогда перед людьми не будет твоей вины. И перед раненой лошадью — тоже. Будешь ты чистый человек, весёлый. Каждый тебя по плечу потреплет и простит. Понятно?
— Понятно, — ответил упавшим голосом Филька.
— Ну, вот и придумай. Даю тебе сроку час с четвертью.
В сенях у Панкрата жила сорока. Она не спала от холода, сидела на хомуте подслушивала. Потом она боком, озираясь, поскакала к щели под дверью. Выскочила наружу, прыгнула на перильца и полетела прямо на юг. Сорока была опытная, старая и нарочно летела у самой земли, потому что от деревень и лесов всё-таки тянуло теплом и сорока не боялась замёрзнуть. Никто её не видел, только лисица в осиновом яру высунула морду из норы, повела носом, заметила, как тёмной тенью пронеслась по небу сорока, шарахнулась обратно в нору и долго сидела, почёсываясь и соображая: куда ж это в такую страшную ночь подалась сорока?
А Филька в это время сидел на лавке, ёрзал, придумывал.
— Ну, — сказал наконец Панкрат, затаптывая махорочную цигарку, — время твоё вышло. Выкладывай! Льготного срока не будет.
— Я, дедушка Панкрат, — сказал Филька, — как рассветёт, соберу со всей деревни ребят. Возьмём мы ломы, пешни, топоры, будем рубить лёд у лотка около мельницы, покамест не дорубимся до воды и не потечёт она на колесо. Как пойдёт вода, ты пускай мельницу! Повернёшь колесо двадцать раз, она разогреется и начнёт молоть. Будет, значит, и мука, и вода, и всеобщее спасение.
— Ишь ты, шустрый какой! — сказал мельник, — Подо льдом, конечно, вода есть. А ежели лёд толщиной в твой рост, что ты будешь делать?
— Да ну его! — сказал Филька. — Пробьём мы, ребята, и такой лёд!
— А ежели замёрзнете?
— Костры будем жечь.
— А ежели не согласятся ребята за твою дурь расплачиваться своим горбом? Ежели скажут: “Да ну его! Сам виноват — пусть сам лёд и скалывает”.
— Согласятся! Я их умолю. Наши ребята — хорошие.
— Ну, валяй собирай ребят. А я со стариками потолкую. Может, и старики натянут рукавицы да возьмутся за ломы.
В морозные дни солнце восходит багровое, в тяжёлом дыму. И в это утро поднялось над Бережками такое солнце. На реке был слышен частый стук ломов. Трещали костры. Ребята и старики работали с самого рассвета, скалывали лёд у мельницы. И никто сгоряча не заметил, что после полудня небо затянулось низкими облаками и задул по седым ивам ровный и тёплый ветер. А когда заметили, что переменилась погода, ветки ив уже оттаяли, и весело, гулко зашумела за рекой мокрая берёзовая роща. В воздухе запахло весной, навозом.
Ветер дул с юга. С каждым часом становилось всё теплее. С крыш падали и со звоном разбивались сосульки.
Вороны вылезли из-под застрех и снова обсыхали на трубах, толкались, каркали.
Не было только старой сороки. Она прилетела к вечеру, когда от теплоты лёд начал оседать, работа у мельницы пошла быстро и показалась первая полынья с тёмной водой.
Мальчишки стащили треухи и прокричали “ура”. Панкрат говорил, что если бы не тёплый ветер, то, пожалуй, и не обколоть бы лёд ребятам и старикам. А сорока сидела на раките над плотиной, трещала, трясла хвостом, кланялась на все стороны и что-то рассказывала, но никто, кроме ворон, её не понял. А сорока рассказывала, что она долетела до тёплого моря, где спал в горах летний ветер, разбудила его, натрещала ему про лютый мороз и упросила его прогнать этот мороз, помочь людям.
Ветер будто бы не осмелился отказать ей, сороке, и задул, понёсся над полями, посвистывая и посмеиваясь над морозом. И если хорошенько прислушаться, то уже слышно, как по оврагам под снегом бурлит-журчит тёплая вода, моет корни брусники, ломает лёд на реке.
Всем известно, что сорока — самая болтливая птица на свете, и потому вороны ей не поверили — покаркали только между собой: что вот, мол, опять завралась старая.
Так до сих пор никто и не знает, правду ли говорила сорока, или всё это она выдумала от хвастовства. Одно только известно, что к вечеру лёд треснул, разошёлся, ребята и старики нажали — и в мельничный лоток хлынула с шумом вода.
Старое колесо скрипнуло — с него посыпались сосульки — и медленно повернулось. Заскрежетали жернова, потом колесо повернулось быстрее, и вдруг вся старая мельница затряслась, заходила ходуном и пошла стучать, скрипеть, молоть зерно.
Панкрат сыпал зерно, а из-под жернова лилась в мешки горячая мука. Женщины окунали в неё озябшие руки и смеялись.
По всем дворам кололи звонкие берёзовые дрова. Избы светились от жаркого печного огня. Женщины месили тугое сладкое тесто. И всё, что было живого в избах — ребята, кошки, даже мыши,— всё это вертелось около хозяек, а хозяйки шлёпали ребят по спине белой от муки рукой, чтобы не лезли в самую квашню и не мешались.
Ночью по деревне стоял такой запах тёплого хлеба с румяной коркой, с пригоревшими к донцу капустными листьями, что даже лисицы вылезли из нор, сидели на снегу, дрожали и тихонько скулили, соображая, как бы словчиться стащить у людей хоть кусочек этого чудесного хлеба.
На следующее утро Филька пришёл вместе с ребятами к мельнице. Ветер гнал по синему небу рыхлые тучи и не давал им ни на минуту перевести дух, и потому по земле неслись вперемежку то холодные тени, то горячие солнечные пятна.
Филька тащил буханку свежего хлеба, а совсем маленький мальчик Николка держал деревянную солонку с крупной жёлтой солью. Панкрат вышел на порог, спросил:
— Что за явление? Мне, что ли, хлеб-соль подносите? За какие такие заслуги?
— Да нет! — закричали ребята.— Тебе будет особо. А это раненому коню. От Фильки. Помирить мы их хотим.
— Ну что ж, — сказал Панкрат, — не только человеку извинение требуется. Сейчас я вам коня представлю в натуре.
Панкрат отворил ворота сарая, выпустил коня. Конь вышел, вытянул голову, заржал — учуял запах свежего хлеба. Филька разломил буханку, посолил хлеб из солонки и протянул коню. Но конь хлеба не взял, начал мелко перебирать ногами, попятился в сарай. Испугался Фильки. Тогда Филька перед всей деревней громко заплакал.
Ребята зашептались и притихли, а Панкрат потрепал коня по шее и сказал:
— Не пужайся, Мальчик! Филька не злой человек. Зачем же его обижать? Бери хлеб, мирись!
Конь помотал головой, подумал, потом осторожно вытянул шею и взял наконец хлеб из рук Фильки мягкими губами. Съел один кусок, обнюхал Фильку и взял второй кусок. Филька ухмылялся сквозь слезы, а конь жевал хлеб, фыркал. А когда съел весь хлеб, положил голову Фильке на плечо, вздохнул и закрыл глаза от сытости и удовольствия.
Все улыбались, радовались. Только старая сорока сидела на раките и сердито трещала: должно быть, опять хвасталась, что это ей одной удалось помирить коня с Филькой. Но никто её не слушал и не понимал, и сорока от этого сердилась всё больше и трещала, как пулемёт.
15. Паустовский К.Г. "Заячьи лапы"

К ветеринару в наше село пришел с Урженского озера Ваня Малявин и принес завернутого в рваную ватную куртку маленького теплого зайца. Заяц плакал и часто моргал красными от слез глазами…
– Ты что, одурел? – крикнул ветеринар. – Скоро будешь ко мне мышей таскать, оголец!
– А вы не лайтесь, это заяц особенный, – хриплым шепотом сказал Ваня. Его дед прислал, велел лечить.
– От чего лечить-то?
– Лапы у него пожженные.
Ветеринар повернул Ваню лицом к двери, толкнул в спину и прикрикнул вслед:
– Валяй, валяй! Не умею я их лечить. Зажарь его с луком – деду будет закуска.
Ваня ничего не ответил. Он вышел в сени, заморгал глазами, потянул носом и уткнулся в бревенчатую стену. По стене потекли слезы. Заяц тихо дрожал под засаленной курткой.
– Ты чего, малый? – спросила Ваню жалостливая бабка Анисья; она привела к ветеринару свою единственную козу. – Чего вы, сердешные, вдвоем слезы льете? Ай случилось что?
– Пожженный он, дедушкин заяц, – сказал тихо Ваня. – На лесном пожаре лапы себе пожег, бегать не может. Вот-вот, гляди, умреть.
– Не умреть, малый, – прошамкала Анисья. – Скажи дедушке своему, ежели большая у него охота зайца выходить, пущай несет его в город к Карлу Петровичу.
Ваня вытер слезы и пошел лесами домой, на Урженское озеро. Он не шел, а бежал босиком по горячей песчаной дороге. Недавний лесной пожар прошел стороной на север около самого озера. Пахло гарью и сухой гвоздикой. Она большими островами росла на полянах.
Заяц стонал.
Ваня нашел по дороге пушистые, покрытые серебряными мягкими волосами листья, вырвал их, положил под сосенку и развернул зайца. Заяц посмотрел на листья, уткнулся в них головой и затих.
– Ты чего, серый? – тихо спросил Ваня. – Ты бы поел.
Заяц молчал.
– Ты бы поел, – повторил Ваня, и голос его задрожал. – Может, пить хочешь?
Заяц повел рваным ухом и закрыл глаза.
Ваня взял его на руки и побежал напрямик через лес – надо было поскорее дать зайцу напиться из озера.
Неслыханная жара стояла в то лето над лесами. Утром наплывали вереницы белых облаков. В полдень облака стремительно рвались вверх, к зениту, и на глазах уносились и исчезали где-то за границами неба. Жаркий ураган дул уже две недели без передышки. Смола, стекавшая по сосновым стволам, превратилась в янтарный камень.
Наутро дед надел чистые онучи и новые лапти, взял посох и кусок хлеба и побрел в город. Ваня нес зайца сзади. Заяц совсем притих, только изредка вздрагивал всем телом и судорожно вздыхал.
Суховей вздул над городом облако пыли, мягкой, как мука. В ней летал куриный пух, сухие листья и солома. Издали казалось, что над городом дымит тихий пожар.
На базарной площади было очень пусто, знойно; извозчичьи лошади дремали около водоразборной будки, и на головах у них были надеты соломенные шляпы. Дед перекрестился.
– Не то лошадь, не то невеста – шут их разберет! – сказал он и сплюнул.
Долго спрашивали прохожих про Карла Петровича, но никто толком ничего не ответил. Зашли в аптеку. Толстый старый человек в пенсне и в коротком белом халате сердито пожал плечами и сказал:
– Это мне нравится! Довольно странный вопрос! Карл Петрович Корш специалист по детским болезням – уже три года как перестал принимать пациентов. Зачем он вам?
Дед, заикаясь от уважения к аптекарю и от робости, рассказал про зайца.
– Это мне нравится! – сказал аптекарь. – Интересные пациенты завелись в нашем городе. Это мне замечательно нравится!
Он нервно снял пенсне, протер, снова нацепил на нос и уставился на деда. Дед молчал и топтался на месте. Аптекарь тоже молчал. Молчание становилось тягостным.
– Почтовая улица, три! – вдруг в сердцах крикнул аптекарь и захлопнул какую-то растрепанную толстую книгу. – Три!
Дед с Ваней добрели до Почтовой улицы как раз вовремя – из-за Оки заходила высокая гроза. Ленивый гром потягивался за горизонтом, как заспанный силач распрямлял плечи и нехотя потряхивал землю. Серая рябь пошла по реке. Бесшумные молнии исподтишка, но стремительно и сильно били в луга; далеко за Полянами уже горел стог сена, зажженный ими. Крупные капли дождя падали на пыльную дорогу, и вскоре она стала похожа на лунную поверхность: каждая капля оставляла в пыли маленький кратер.
Карл Петрович играл на рояле нечто печальное и мелодичное, когда в окне появилась растрепанная борода деда.
Через минуту Карл Петрович уже сердился.
– Я не ветеринар, – сказал он и захлопнул крышку рояля. Тотчас же в лугах проворчал гром. – Я всю жизнь лечил детей, а не зайцев.
– Что ребенок, что заяц – все одно, – упрямо пробормотал дед. – Все одно! Полечи, яви милость! Ветеринару нашему такие дела неподсудны. Он у нас коновал. Этот заяц, можно сказать, спаситель мой: я ему жизнью обязан, благодарность оказывать должен, а ты говоришь – бросить!
Еще через минуту Карл Петрович – старик с седыми взъерошенными бровями, – волнуясь, слушал спотыкающийся рассказ деда.
Карл Петрович в конце концов согласился лечить зайца. На следующее утро дед ушел на озеро, а Ваню оставил у Карла Петровича ходить за зайцем.
Через день вся Почтовая улица, заросшая гусиной травой, уже знала, что Карл Петрович лечит зайца, обгоревшего на страшном лесном пожаре и спасшего какого-то старика. Через два дня об этом уже знал весь маленький город, а на третий день к Карлу Петровичу пришел длинный юноша в фетровой шляпе, назвался сотрудником московской газеты и попросил дать беседу о зайце.
Зайца вылечили. Ваня завернул его в ватное тряпье и понес домой. Вскоре историю о зайце забыли, и только какой-то московский профессор долго добивался от деда, чтобы тот ему продал зайца. Присылал даже письма с марками на ответ. Но дед не сдавался. Под его диктовку Ваня написал профессору письмо:
Заяц не продажный, живая душа, пусть живет на воле. При сем остаюсь Ларион Малявин.
…Этой осенью я ночевал у деда Лариона на Урженском озере. Созвездия, холодные, как крупинки льда, плавали в воде. Шумел сухой тростник. Утки зябли в зарослях и жалобно крякали всю ночь.
Деду не спалось. Он сидел у печки и чинил рваную рыболовную сеть. Потом поставил самовар – от него окна в избе сразу запотели и звезды из огненных точек превратились в мутные шары. Во дворе лаял Мурзик. Он прыгал в темноту, ляскал зубами и отскакивал – воевал с непроглядной октябрьской ночью. Заяц спал в сенях и изредка во сне громко стучал задней лапой по гнилой половице.
Мы пили чай ночью, дожидаясь далекого и нерешительного рассвета, и за чаем дед рассказал мне наконец историю о зайце.
В августе дед пошел охотиться на северный берег озера. Леса стояли сухие, как порох. Деду попался зайчонок с рваным левым ухом. Дед выстрелил в него из старого, связанного проволокой ружья, но промахнулся. Заяц удрал.
Дед пошел дальше. Но вдруг затревожился: с юга, со стороны Лопухов, сильно тянуло гарью. Поднялся ветер. Дым густел, его уже несло белой пеленой по лесу, затягивало кусты. Стало трудно дышать.
Дед понял, что начался лесной пожар и огонь идет прямо на него. Ветер перешел в ураган. Огонь гнало по земле с неслыханной скоростью. По словам деда, даже поезд не мог бы уйти от такого огня. Дед был прав: во время урагана огонь шел со скоростью тридцати километров в час.
Дед побежал по кочкам, спотыкался, падал, дым выедал ему глаза, а сзади был уже слышен широкий гул и треск пламени.
Смерть настигала деда, хватала его за плечи, и в это время из-под ног у деда выскочил заяц. Он бежал медленно и волочил задние лапы. Потом только дед заметил, что они у зайца обгорели.
Дед обрадовался зайцу, будто родному. Как старый лесной житель, дед знал, что звери гораздо лучше человека чуют, откуда идет огонь, и всегда спасаются. Гибнут они только в тех редких случаях, когда огонь их окружает.
Дед побежал за зайцем. Он бежал, плакал от страха и кричал: «Погоди, милый, не беги так-то шибко!»
Заяц вывел деда из огня. Когда они выбежали из леса к озеру, заяц и дед – оба упали от усталости. Дед подобрал зайца и понес домой. У зайца были опалены задние ноги и живот. Потом дед его вылечил и оставил у себя.
– Да, – сказал дед, поглядывая на самовар так сердито, будто самовар был всему виной, – да, а перед тем зайцем, выходит, я сильно провинился, милый человек.
– Чем же ты провинился?
– А ты выдь, погляди на зайца, на спасителя моего, тогда узнаешь. Бери фонарь!
Я взял со стола фонарь и вышел в сенцы. Заяц спал. Я нагнулся над ним с фонарем и заметил, что левое ухо у зайца рваное. Тогда я понял все.
16. Платонов А.П. "Никита"